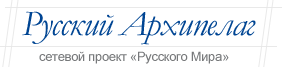Версия для печати
"Политические религии"
Со сравнительно недавнего времени в политологический лексикон вошло выражение "политический ислам". Само появление в соответствующем обиходе этого выражения симптоматично: ведь ислам по определению не может быть не "политическим", но оказалось, что в определенный момент истории "мирового сообщества" этим сообществом был обнаружен этот имманентный аспект ислама как религии.
Можно сделать достаточно примитивное предположение, что это произошло тогда, когда исламская умма обнаружила свое религиозно-общинное присутствие в западном мире. А также тогда, когда "мировое сообщество" от парадигмы колониализма (завоевания "территорий", в том числе миссионерского, религиозного) через парадигму пост-колониализма (отказа от завоевания "территорий" в пользу завоевания "рынков") перешло к парадигме глобализма (то есть к пониманию "территории" планеты Земля как общей и одновременно своей).
Характерно уже это совпадение двух "моментов", двух разнонаправленных движений: с одной стороны, исламской религии — на Запад, где она сопротивляется тому приватному статусу, который "отведен" всякой религии в секулярном обществе; с другой стороны, секулярной политики — на Восток и по всему миру, где она настаивает на деполитизации религии, но наталкивается на иную парадигму — на "политический ислам".
Об этом сейчас много говорят, отмечая (или сожалея), что в ситуации очевидного напряжения между "исламской цивилизацией" и "христианской цивилизацией" последней не достает активной религиозной составляющей, которая уравновешивала бы соответствующую исламскую составляющую. Но на самом деле еще вопрос, насколько долговременной будет эта исламская религиозная активность в политике — под натиском модернизации, неизбежной в условиях глобализации. Некоторые специалисты считают, что ислам не поддается секуляризации, но в этом можно усомниться. Есть пример Турции и некоторых других мусульманских стран. Наличие исламских религиозно-политических движений разной мощности в разных странах и регионах еще не означает, что они-то и определяют лицо "исламской цивилизации" в целом. Просто они более всего заметны и доставляют больше всего беспокойства. Но не надо забывать, что еще несколько десятилетий назад эта "пассионарность" принимала формы антиколониализма и/или социализма. Мы живем в конкретно-исторический момент — как истории Запада, так и истории Востока. И сейчас трудно сказать, какова будет ситуация, скажем, через 20-30 лет (тем более если учитывать скорость развития информационно-технологического общества). Например, религиовед и политолог Андрей Зубов считает, что активизацию религиозного фактора в исламском мире следует рассматривать не как имманентную черту его "природы", а, скорее, как своего рода последний всплеск перед неизбежным угасанием религиозной энергии и что в этом отношении судьба ислама, в конечном счете, будет подобной судьбе христианства. Впрочем, поживем — увидим.
Что же касается христианской стороны, то, применительно к России, можно говорить о появлении "политического православия" (употребляем это выражение по аналогии с выражением "политический ислам"). Кратко его можно определить как проект ресакрализации политики и одновременно политизации религии. Предполагается, что политика должна зависеть от религии, проверяться ценностями последней, а религия — активно участвовать в политике и ее определять.
Вряд ли стоит говорить о том, насколько реалистичен проект политического православия. Но не мешает сопоставить его с церковной традицией.
Церковь уже очень давно разрешила проблему своей политической ангажированности через образ двух Градов и двух гражданств своих членов. Церковь участвует в политике, поскольку в ней участвуют христиане. Но Церковь в своем сакраментальном и духовном измерении, как Богочеловеческий организм, не может участвовать в мирской политике, поскольку ее задача и миссия выходит за пределы здешней исторической данности. Иначе в политике должен был бы участвовать и Тот, Кто является Главой Церкви, — Сам Иисус Христов, вознесшийся на небо.
В этой антиномии "участия–неучастия" суть собственно христианской позиции. А суть антиномического подхода заключается в том, что он (нужно ли об этом говорить? — наверное, нужно) антагонистичен любой энномии. А политическое православие как раз тяготеет к энномии. Его главное искушение в том, что оно хочет (именно — хочет!) из двух Градов сделать один. И в этом политическое православие родственно с политическим исламом (оба наименования, конечно, относятся к нашей эпохе). Только исламская религиозная энномия органична для этой религии, а христианская есть перверсия, отказ от того самого евангельского парадоксализма, который не может быть уничтожен никакими историческими прецедентами.
(На характерный пример такого энномического подхода указывает Константин Костюк в важной статье "Антизападничество и антимодернизм в восточном православии" — Континент, №110, 2001, — приводя высказывание епископа Белгородского Иоанна: "Нужен закон, который бы объявил, что именно Церковь является носительницей тех нравственных начал, на которых будет строить свое основание русское государство… Законы должны проходить церковную экспертизу, достаточно внести эту строчку в Конституцию, и тогда будет все нормально". Здесь очевидным образом смешаны "нравственные начала", которые защищает и утверждает Церковь в соответствии со своим призванием, и государственное законодательство, которое имеет иную природу и цель.)
Сторонники политического православия часто апеллируют к византийской теории и практике. Но они забывают, что и теория, и практика эти были весьма противоречивы. С одной стороны, для этой теории принципиальна дихотомия Священства и Царства, без которой невозможно говорить ни о какой симфонии. С другой стороны, попытка из этих двух "начал" соорудить некий органический симбиоз, уже "в этом веке" достигающий некоего Высшего Единства, не только предосудительна с богословской точки зрения, но и обречена на очередной провал, если вспомнить историю подобных симбиозов. В данном случае политическое православие искушается византийским искушением, не извлекши исторических уроков. Оно вообще не знает никакой Истории — ни священной (библейской), ни секулярной. Скажем, для православных монархистов совсем не поучительна история возникновения царства в ветхозаветном Израиле. Не поучительны для них и перипетии российско-византийских отношений. Скажем, византийская церковная теория о том, что у православных христиан может быть только один царь — византийский василевс (как она выражена, например, в письме патриарха Антония московскому великому князю Василию Дмитриевичу, XIV в.), никак не способствовала в свое время становлению российского государства и российской монархии. Но и византийская монархия, и российская были и не могли не быть преходящими историческими феноменами. А Церковь, как известно, пребудет до скончания века.
Напряжение между Церковью как явлением Царства Божия на земле и Государством как "царством от мира сего" существенно и принципиально для церковного сознания. Когда государство было "христианским", шла постоянная борьба за действительную симфонию — против подавления одного начала другим. Возникали то цезаропапистские, то папоцезаристские теории, которые в той или иной мере осуществлялись на практике, но и встречали сопротивление. Вспомним в российской истории Иосифа Волоцкого, для которого царь был "верховным пастырем", стоящим над епископами Церкви, или патриарха Никона, который бескомпромиссно защищал, так сказать, западную модель верховенства Священной власти.
Однако до определенного времени сам "союз трона и алтаря" не подвергался сомнению. Но когда исторические обстоятельства изменились, пришлось возвращаться к древней парадигме двух Градов и в ее свете осмыслять разделение государственного и церковного институтов. Впрочем, такое понимание утвердилось не сразу. Так, в период Поместного собора 1917-1918 гг. сама идея об отделении Церкви от государства многим представлялась абсурдной. Отделить Церковь от государства — это все равно, что отделить душу от тела народного, считал епископ Андрей (князь Ухтомский). И только соловецкие узники в своем послании приняли эту парадигму, поняв, что историческая ситуация радикально изменилась (для них "власть" Церкви является именно духовно-нравственной). Очередное радикальное изменение 1991 года никоим образом не делает сложившуюся ранее ситуацию обратимой. И вот, позицию РПЦ, которая нашла отражение в ее социальной концепции 2000 года, определили не только это понимание, но и возврат к евангельской антиномии Церкви и "мира сего".
Сторонники политического православия часто апеллируют к Традиции — в том смысле, что верность традиции призвана сохранить мир от распада, в том числе от коррупции самой религии. Но традиция — это по существу своему культурологическое понятие. Традиция как "стабильность" культурной инерции есть нечто, прямо противоположное религиозному профетизму. А ведь профетизм — это "принцип" исторического бытия истинной религии. Тем более в христианстве, где профетизм имеет не только и не столько горизонтально-футурологический смысл, сколько вертикально-сиюминутный ("в чем застану, в том и сужу"). Традиция здесь (= предание, то есть передача во времени) — это прежде всего "тождество опыта", по выражению о. Г. Флоровского. Передается "умение" приобретать опыт, то есть некая "карта" возможного пути к событию встречи с вечностью Бога, Который — здесь и теперь, то есть в каждый момент (экзистенциального) времени уже присутствует в человеческом мире. В центре внимания — "прорыв", реальное трансцендирование, позволяющее увидеть мир sub specie aeternitatis, то есть религиозно в подлинном смысле этого слова, и поэтому по-иному, по-новому жить в этом мире.
Но такое понимание "православные политики" хотят вытеснить или, по крайней мере, сдвинуть на периферию, в "пространство души". Потому что они озабочены проектированием посюстороннего симбиоза "остова Церкви" (церковной институции) и Государства, которое в лице некоторых нынешних бюрократов, стремится к власти, "опирающейся на трансцендентность". Но надо напомнить, что таково любое Государство, даже такое, которое "по-христиански" стремится ограничить себя "Богом" как еще более высокой Властью (поэтому Церкви всегда приходилось бороться с "незаконными" притязаниями христианского государства). Отсюда понятно, почему Церковь осознает себя как не-государство, признавая своим Главой Христа, сидящего одесную Отца на небесах (даже у католиков папа — лишь "наместник" Христа).
Можно предположить, что главная историческая неудача "византийского проекта" (и псевдовизантинизма российской империи) заключается в том, что в нем живое слово о "трансцендентном" было бюрократически вложено в уста статусного политического агента — василевса, главы христианского государства. И в его устах это слово рано или поздно должно было умирать. Потому что "от Церкви" (в богословском и духовном смысле) говорят не статусные фигуры, а те, кто дерзают говорить по опыту и смыслу (по церковному Преданию и веро-учению) и готовы — не героически! — принять за существо веры временную смерть. Именно временную — не секулярно-вечную.
Политическое православие, борясь, как ему кажется, с культурологическим извращением христианства, по существу такое извращение и пропагандирует. Причем — в массах (по определению политических). А побеждает, в конечном счете, политическая прагматика — в ущерб опыту собственно религиозной веры. Той веры, которая не отождествляется и не может отождествиться с религиозной энномией, с лукавой (от Лукавого) попыткой использовать "трансцендентное" в целях снятия антиномии и парадокса, которые неотделимы от истинного Богопочитания.
Источник: "Религия и СМИ ", 09 октября 2003 г.
|