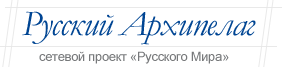|
Ксения Касьянова
 Версия для печати
Представляем ли мы, русские, нацию?
Мы, русские, большой народ и ярко выраженный этнос с древней и оригинальной культурой. Это не вызывает ни у кого сомнения. А вот сложились ли мы в нацию — пока еще вопрос. И ответить на него можно, только прояснив, что же мы понимаем под "нацией".
В обыденном сознании "этническое" и "национальное" часто вообще слабо различаются, а иногда употребляются как понятия взаимозаменимые. Но вообще-то принято считать, что "нация" — это определенная стадия в развитии "этноса". Вопрос, поставленный в заголовке, следовательно, формулируется теперь так: достигли ли мы, русские, в своем развитии стадии нации или находимся пока, по выражению Герцена, на "донациональном уровне"?
На протяжении своей истории каждый этнос претерпевает весьма крупные изменения; они обусловлены изменением среды его существования, как внешней, так и внутренней. Начинается каждый этнос с кровнородственных связей — с рода и племени. Семья и союз семей, связанных родством и свойством, — вот его основа, простая и ясная.
Но развивается хозяйство, умножается население, и племена начинают закреплять за собой землю, пастбища, охотничьи угодья. Первоначально селятся вместе родственники; постепенно, со временем войны, стихийные бедствия, миграции начинают перемешивать население. Все больше чужих, пришлых людей поселяется вперемежку с родственниками, системы кровнородственных уз ослабевают, перестают чувствовать себя "своими" люди, связанные отдаленными степенями родства. И тогда возникает необходимость выработать какие-то новые культурные скрепы взамен прежних, родственных. Если они не будут выработаны и на месте бывшего племени не сформируется устойчивая территориальная общность (община, марка), то первая же волна нашествия иноплеменников сметет ослабевшее этническое образование и рассеет по лицу Земли потомков племени, просуществовавшего, может быть, сотни или даже тысячи лет. И уже через несколько поколений его потомки забудут свой язык, обычаи, песни, войдя в состав других образований.
А если община сформировалась, значит, произошла некоторая трансформация тех социальных связей, которыми держится этнос. Это уже не только и не столько ощущение кровного родства, сколько общность территории, занятий; участие в одних и тех же событиях и обрядах; со временем сюда добавляется общность прошлого, могилы предков, приверженность одним и тем же, веками освященным традициям, эпос, фольклор. Все это существовало уже и в родовом обществе, но там оно играло как бы второстепенную роль, роль подкрепляющих факторов. Здесь же выходит на первый план и приобретает решающее значение.
Такая территориальная община продолжает культурную традицию, взаимодействуя с другими общинами как целое, как живая клетка, способная к развитию в истории. Со временем место прежнего племенного союза занимает государство. И поскольку наряду с центростремительными тенденциями в таких государственных образованиях всегда существуют и центробежные (этнос расселяется на большой территории, связи между отдаленными общинами начинают слабеть, возникают диалекты, вариации традиций и обрядов), то вырабатываются способы подкрепления единства этноса, использующие новые явления, прежде всего разделение труда, порождающее торговлю, ремесла, города. На обширный единообразный слой земледельцев (или скотоводов) как бы нарастают сверху еще один за другим несколько слоев, гораздо меньших, но часто более активных. Они отличны от первого и друг от друга по занятиям и образу жизни, но сходны по многим культурным характеристикам, поскольку корень у них у всех один — все они формируются из выходцев, отпавших разными путями от основного слоя. Эти-то новые слои, поддерживающие живые и устойчивые связи внутри себя и друг с другом, способствуют объединению, развивая торговлю и связь, транспортные пути и органы управления, наконец, общенародную культуру на основе этнического фольклора в разных его вариантах. Так этнос продолжает существовать уже как сословное общество.
Но динамические процессы продолжают умножаться и ускоряться. Промышленная революция и урбанизация приводят к очень активным миграциям, массы населения начинают перемещаться из сел в города и из одних городов в другие, из страны в страну. Возникают сезонные миграции и постоянные миграционные потоки. Урбанизация разрушает устоявшийся образ жизни и социальные связи.
До сих пор общество развивалось и стабилизировалось на основании так называемого "обычного права", т.е. права, установленного на обычае. Обычай же, как и традиция, весьма надежен, устойчив, но изменения в нем не могут происходить быстро. Он модернизируется и трансформируется, конечно, но страшно медленно, веками, уж во всяком случае десятилетиями. Обычай держится авторитетом предков, многих поколений предков. Его сила — в его древности. Обычай, установленный несколько лет назад, — это еще не обычай, просто конвенциальная условность, которую можно принять, можно и отменить. Как современный юридический акт, только без сильного механизма, обеспечивающего его выполнение, каким располагает современное государство. Обычай обеспечен только общественным мнением и моральным чувством.
Активная миграция и социальная мобильность отрывают целые массы населения от устойчивых социальных систем (общин, ремесленных и торговых цехов и гильдий, феодальных дворов), выводят их из-под влияния общественного мнения более или менее стабильных социальных кругов. "Аутсайдеры" в прежних обществах были исключением и вдруг превращаются в массы. И прежде крестьяне уходили на заработки в города и могли жить там годами, а некоторые даже оставались там навсегда, но все-таки община как таковая сохранялась и продолжала культурную традицию. То же можно сказать о ремесленных и торговых сословиях, перемещавшихся особенно активно. И раньше дворяне могли в каких-то условиях массами беднеть, превращаться в однодворцев, уходить в чиновники и другой "служилый люд", но сословие как таковое сохранялось, развивало культурную традицию. Теперь сами эти образования начали рушиться и распадаться. А ведь личность "питалась" именно от поддерживаемых ими традиций. И это постепенно становилось очевидным.
В XIX в. много надежд было связано с той свободой, которую наконец-то обретала личность и которая должна была обеспечить человеку возможность стать "неповторимой индивидуальностью". Интеллигенты восторженно приветствовали освобождение человека "из-под гнета общины", которая, по выражению Ленина, "мяла и давила его". Маркс и Энгельс также возлагали надежды на капитализм и потому, что он "вырывал массы" из "идиотизма деревенской жизни". Так предполагалось в теории: освобожденная от всех пут человеческая личность на фоне встающего из-за горизонта солнца свободного и счастливого общества будущего...
То, что происходило на практике, описывает нам литература второй половины XIX в. Тогдашние писатели-"деревенщики", в частности Глеб Успенский в своих очерках, оставили живое свидетельство о процессах, происходивших в период разложения русской крестьянской общины. Это — повествования о раскрепощенных от общинных уз людях, бывших крестьянах и ремесленниках, становящихся в новых условиях мошенниками, эксплуататорами и даже наемными убийцами. Г. Успенского, который в принципе очень уважает крестьян, просто поражает полная безответственность этих "раскрепощенных" индивидов, их свобода от всяких моральных ограничений и полное неведение в вопросах нравственности. Заголовки его очерков говорят сами за себя: "Своим умом", "Беспомощность", "Без своей воли", "Маленькие недостатки механизма", "Опустошители", "Свои средствия". Отпадение масс людей от устойчивых систем коллективных представлений порождает падение нравов, рост преступности, пьянство, хулиганство, бессмысленную жестокость.
А ведь крестьяне как сословие всегда были необычайно устойчивы в моральном отношении. По преступности крестьяне занимали в России предпоследнее место среди сословий (последнее оставалось за духовенством). Но из того же крестьянина, "выброшенного расстройством деревенского духа и быта" в город, получается человек, в котором писатель видит индивида, "готового подчиниться в чуждой ему среде всевозможным влияниям с наивностью ребенка, не имеющего возможности знать и понимать, что в этих условиях зло и что добро". "Своего по части убеждений и нравственности у него нет ничего, — пишет он с горечью, — хоть шаром покати. Это совершенно пустой сосуд, который может быть наполнен чем угодно".
Личность получила-таки автономию от определенных структур общественного сознания, в которые она была "влита" (община, сословие). Но на первых порах никому большого счастья это не принесло. Человек оказался выброшенным из уютного, теплого гнезда, где все известно, в холодный непонятный мир, где люди разрознены, каждый борется и отстаивает сам себя, где обман и подлость довольно часто оказываются безнаказанными, а добрые поступки не вознаграждаются. Этот неустроенный, непредсказуемый для него мир, по выражению Чарлза Кули, "со всех сторон толкающийся локтями", как-то скрепляется извне скрепами государственных и формальных организаций и цивилизуется посредством массовой культуры.
Человек в нем вынужден, с одной стороны, приобретать индивидуалистические черты, а с другой — унифицироваться культурно и духовно. Раньше высоколобые интеллектуалы сокрушались о том, что община и сословие формируют личность как бы по единому образцу, оставляя очень мало места индивидуальности; но все-таки община от общины отличалась довольно сильно своими обрядами, фольклорными традициями и многим другим, и внутри сословий было множество подструктур, разнообразных и сложных. Теперь же на огромных пространствах все читают одну и ту же литературу, живут в одинаковых, неотличимых друг от друга домах, а несколько позднее — слушают одни и те же радиопередачи, смотрят одно и то же телевидение. Вот простор индивидуальности!
Тут этнос вновь вынужден перестроиться, чтобы наладить новые связи между людьми, потому что этнос — это то, что объединяет людей изнутри, культурно и духовно. Не унифицирует, а именно объединяет. Объединение предполагает определенные структуры большей или меньшей степени сложности, функциональную взаимозависимость между частями, как в любом организме.
Эту задачу этнос будет решать теперь, имея сформировавшуюся автономную личность. И хотя личность пока что движется в своем развитии скорее в сторону индивидуалистичности, чем индивидуальности, и скорее отчужденности от других, чем самостоятельности, тем не менее это уже не часть определенного коллективного сознания. Личность находится под влиянием разных структур, групп, субкультур и вынуждается самими условиями своего существования выбирать, сопоставлять, оценивать и ко всему относиться с некоторой дозой критичности и рефлексии.
Любая социальная группа, большая и маленькая, организуется прежде всего системой представлений, которые должны быть не хаосом, но космосом, объединяющим различные фрагменты и подструктуры в единое непротиворечивое целое. В нем нормативные пласты упорядочиваются ценностно окрашенными представлениями о мире и месте в нем человека, о том, что есть добро, что — зло, что справедливо, что несправедливо, важно и второстепенно. Именно это делает поведение человека ценностно обоснованным и придает его жизни смысл и значение. "...Любая социальная группа, — пишет польский социолог Юзеф Халасинский, — это вопрос представлений... она зависит от коллективных представлений, и без них ее невозможно даже вообразить". Еще ранее это бесстрашно и обнаженно сформулировал Эмиль Дюркгейм в своем труде "Элементарные формы религиозной жизни": "Общество основывается... прежде всего на идее, которую оно само о себе создает".
Это представление общества о самом себе ранее человек впитывал бессознательно в своей общине, в своей устойчивой среде и привыкал с детства именно так видеть мир. Теперь этот механизм передачи коллективных представлений нарушился, потому что сами первичные структуры, их хранившие, потеряли устойчивость и преемственность. Остается усваивать такие представления через осознание, рефлексию в процессе оценки и выбора. Но тогда сами коллективные представления должны приобрести вербальный и логически упорядоченный вид. Они должны стать ценностными высказываниями, принципами, лозунгами, программами, потому что нация — это прежде всего идея.
Как переформировывались в нации, например, английский и французский народы? Философы выдвигали и разрабатывали некоторые глобальные принципы о человеке и отношении к нему и его самого к миру и обществу. Часто им казалось, что они формулируют какие-то извечные и универсальные законы и истины (например, понятие о прирожденных правах человека). На самом же деле они переводили в слова ценностные положения и принципы собственных этнических культур. То, что некоторые принципы оказывались общими и "мигрировали" из одного этнического ареала в другой, объясняется большой близостью западноевропейской группы культур, которые издавна развивались в тесном общении друг с другом. На основании этих принципов и законов (и параллельно с их разработкой) строились идеалы и представления об обществе, в котором достойно и удобно жить человеку с такими принципами. Представления постепенно доводились до политических программ и лозунгов. Вряд ли все это было достаточно адекватно сформулировано, а тем более воплощено в ходе общественных движений и революций — так в истории никогда не бывает. Идеал остается идеалом. Но идеал сплачивает людей, поднимает их на борьбу, на дела ради достижения цели, помогает переносить трудности, преодолевать кризисы. Система идеалов и целей, тесно связанная с этническим комплексом ценностей и представлений, и есть тот стержень, вокруг которого собирается, кристаллизуется нация.
Еще в XIX в. сам этот процесс складывания нации был осознан Ренаном. Хосе Ортега-и-Гассет назвал это "формулой Ренана": "Общая слава в прошлом и общая воля в настоящем; воспоминание о совершенных великих делах и готовность к дальнейшим — вот существенные условия для создания нации... Позади наследие славы и раскаяния, впереди — общая программа действий... Жизнь нации — это ежедневный плебисцит".
Как видим, такая формула очень далека от марксистского постулата, будто нация — как бы побочный и неизбежный продукт формирования общего рынка. Хотя и складывание рынка с его связями как-то влияет на возникновение и устройство нации. Но ее рождение — и именно в этом пункте мы резко расходимся с марксизмом — уже не есть процесс стихийно-исторический, постепенный и в значительной степени бессознательный. Это как бы экстраполяция предыдущего пути развития этноса на новый этап.
Действительно, до сих пор этнос развивался и переходил из стадии в стадию, из эпохи в эпоху, развивая новые механизмы и скрепы бессознательно, методом проб и ошибок, адаптируясь ко все новым ситуациям. Такой бессознательный, стихийный способ развития требует массы времени. Изменения укореняются постепенно, превращаясь со временем в обычаи, освященные давностью и многими поколениями людей, поддерживавших эти традиции. Этот процесс действительно хорошо выражается словом "складывание"; постепенное прибавление одних элементов к другим, испытание их, замена по частям.
Но динамичная история современности такого времени этносу на переформирование не отпускает. Здесь прерывается стихийно-историческое движение и включается элемент человеческого сознания и воли.
Государственные образования и социальные структуры, формируемые этносом, становятся большими и сложными, а следовательно, менее устойчивыми и хрупкими. Население расселяется по большой территории, создает свои варианты культуры, языка и обычаев. Собственно этнический элемент, передаваемый непосредственно по наследству, все сильнее размывается: на больших пространствах и в больших массах населения неизбежны смешанные браки. Этнос начинает исподволь подвергаться эрозии. Наиболее активно сохраняют этнос на этой стадии предание и культура (те ее слои, которые ближе всего лежат к ценностным представлениям) да еще воспроизводимая по инерции иерархия образов жизни, присущая этносу. Но в какой-то момент возникает кризис (война, экономическая разруха), развязывающий деморализованные силы общества. Государственные и общественные структуры оказываются не в состоянии противостоять распаду целого. И тогда следует призыв к нации с напоминанием о защищаемых ценностях: отечество в опасности, наша жизнь и наши ценности под угрозой — поднимайтесь и беритесь за дело все, кто может. И этнос восстает и показывает, на что он способен. Побеждает или погибает.
Погибает, конечно, не сразу. Проигранная им битва за себя, за свое полноценное этническое существование, — лишь начало длительного процесса разложения. И уже в ходе этого процесса он может еще собраться с силами и возникнуть.
Победа тоже дается часто не сразу, а ценой многих социальных потрясений и катаклизмов. И из этого испытания этнос выходит обновленным и преображенным. Этнос выходит нацией. Происходит сплочение и повышение самосознания чисто этнического элемента, а вокруг него и вместе с ним — части элемента неопределенного и смешанного, маргинального, как говорят теперь. Тот, кто, услышав призыв "отечество в опасности", не укрылся в укромном месте, не побежал за границу, в мирные и благоустроенные государства, со своими детьми и имуществом, а взял оружие и стал защищать отечество, тот показал — в первую очередь себе самому, затем уже и другим, — что ему важны эти ценности и эта культура, что он готов защищать ее, спасать, оберегать, следовательно, что он полноправный сын этого отечества.
Так в результате революций и войн XVIII — XIX вв. образовалась французская нация — из бретонцев, провансальцев, гасконцев и прочих провинциальных образований, включающих массу людей с примесями испанской, баскской, фламандской, немецкой крови. Все они теперь французы: и пылкие, как порох, богатые воображением гасконцы, и тяжелые на подъем, рассудительные бретонцы. У них общая культура и общие ценности. Они их отстояли и утвердили.
Какие именно ценности? В самом общем, схематичном и неконкретизированном виде они их сформулировали и написали на своих знаменах: "Свобода, равенство, братство". Кто-то скажет: какие же это национальные ценности, это же ценности общечеловеческие! Сами ценности — да. А вот иерархия их, — пожалуй, нет. В первую очередь — свобода, потом — равенство, а потом уже и братство. Имеет ли значение этот порядок? История показывает, что в результате борьбы и усилий народу удалось в определенной степени реализовать именно свободу и равенство (в форме демократии), а вот братство — в значительно меньшей степени. Конечно, "братство" — это ценность куда более сложная для реализации, чем "свобода". Ее воплощение требует, по-видимому, гораздо больших творческих усилий, самоотвержения, времени. Не хватило сил на это. Но если бы она стояла первой в ряду, может быть, ее удалось бы осуществить в гораздо большей степени. (В полном объеме осуществить ценности никогда не удается.)
Может быть, нужно было осуществить сначала "свободу" и "равенство", чтобы затем уже на этом основании строить братство как более высокое и сложное образование? Но опыт опять-таки показывает, что каждая ценность требует себе всего внимания целиком. Она как царствие Божие, которое нужно искать "сначала", чтобы все остальное "прилагалось" к нему. Другими словами, впереди ставится ценность, которая формирует культуру, является ее основой. Если мы в начале своего строительства социализма положили в основание всего материальную базу, чтобы потом на ней развить более высокие духовные ценности, то мы ее и строили все семьдесят лет. Не только до духовных ценностей не дошли, но и саму базу не построили, потому что положили в основание не краеугольный камень, не основополагающую ценность данной культуры.
Нации складываются весьма по-разному. Испанская и итальянская нации, например, сформировались в ходе борьбы за независимость: испанцы — гораздо раньше, в процессе своей многовековой реконкисты, освобождая свою страну от завоевателей, наступавших на них из Северной Африки, итальянцы — гораздо позднее, уже в XIX в. И из какого конгломерата этнических элементов сложилась нация итальянская! Веками наслаивались на Апеннинском полуострове волны разнообразных завоевателей, ассимилировались здесь с изначальной культурой и вносили свои этнические составляющие. Тем не менее итальянская нация все-таки создалась как единое целое со своим неповторимым лицом, со своей очень яркой и уникальной культурой. Значит, какое-то ядро изначальных ценностей народам удалось сохранить и пронести сквозь все перипетии бурной и сложной истории.
В наше время, когда к национальному самосознанию стали пробуждаться народы Африки, отвоевание национальной независимости перестало быть такой трудной проблемой. На первый план выдвигаются задачи и трудности, возникающие уже после освобождения "из-под ига" колонизаторов. Это прежде всего сильная языковая и племенная чересполосица, разный уровень развития отдельных малых регионов и, наконец, узкоплеменной национализм.
Когда в 40 — 50-х годах XX в. Леопольд Седар Сенгор, уроженец Сенегала, католик, философ и поэт, получивший блестящее образование во Франции и принятый в самых элитных интеллектуальных французских кругах, вдруг ощутил себя африканцем и развернул движение за пробуждение национального самосознания Черной Африки, то главным для него была именно национальная идея. Он объяснял это так: существуют определенные этнические образования — "родины", общности людей, связанных единством языка, крови и традиций. То, на чем зиждется предыдущий этап развития этноса. "Нация — это не родина, — пишет Сенгор, — она не включает в себя естественные условия, она не есть проявление среды, она есть воля к созданию, а чаще к преобразованию". И немного далее: "...То, что формирует нацию, — это объединенная воля к совместной жизни".
В борьбе против племенного национализма, разрывавшего созданную при его участии республику бывших французских колоний Западной Африки (Сенегал, Мали, Верхняя Вольта и Габон), Сенгор обращается через столетие к Ренану, к его определению нации, и так его интерпретирует: "...Включаясь в ход мысли Ренана, можно определить нацию как коллективное призвание, зависящее от общей шкалы ценностей, от общих институтов и, наконец, от общих целей... Как призвание нация не может быть жесткой рамкой для действия, она сама — стимул". Подчеркивая творческий, динамичный характер нации, Сенгор затрагивает еще одну важную проблему: "...Чтобы народ превратился в нацию, необходимо, чтобы индивид через повышение уровня жизни и культуры развился в личность". Другими словами, необходимо, чтобы совершился процесс формирования автономных личностей, которые только и могут по-настоящему составлять нацию.
Мы уже говорили, что, с одной стороны, появление автономной личности — безусловный прогресс, а с другой — начало целого ряда проблем и трудностей для формирования нации как целого. В своем развитии эта личность начинает с индивидуализации, поисков уровня жизни и культурного развития для себя. Именно этот этап порождает толпы молодых людей, стремящихся вырваться из общин, из первоначальных условий существования, сбросить с себя контроль авторитетов, куда-то ехать, получать образование (желательно в крупных центрах культуры, желательно за пределами своей страны), добиваться там благосостояния, признания, наиболее благоприятных условий для творческой работы, которая на этом этапе служит прежде всего средством самовыражения, самоутверждения, самореализации. Только немногие очень одаренные личности, подобные самому Сенгору, на протяжении собственной жизни успевают этот этап завершить и начать проявлять интерес к чему-то более общему.
Юзеф Халасинский так пишет о Сенгоре: он "без дискриминации со стороны тех (где получал образование. — К.К.) и без укоров в собственной душе учился в элитарной европейской среде и был принят с большим признанием в интеллектуальные, педагогические и артистические элиты Парижа. И, несмотря на такие успехи ассимиляции, пришел все-таки к выводу, что он не француз, а скорее, он — нечто большее, чем просто француз, потому что он еще и африканец". Он не пожелал сам "присоединиться к Франции в качестве бездомного подкидыша, усыновленного случайно нашедшим его богачом".
По-видимому, такие именно люди и должны, и могут работать на выявление национальной идеи. Они не будут жаловаться, что наш народ "не ставил себе задачей выработать и дисциплинировать личность" (Н. Бердяев), что он слишком чтит традиции, уважает смирение и, напротив, сдержанно относится к творчеству новых форм, что в нем "есть темная, в дурном смысле иррациональная непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия". ("Как бы далеко ни заходило просвещение и подчинение культуре русской земли, всегда остается осадок, с которым ничего нельзя поделать", — пишет Н. Бердяев и этим бессознательно употребленным оборотом "подчинение культуре" показывает подоснову своего анализа: то, что сложилось в самом народе, — это не культура, это дикость, темнота, ее обязательно нужно преодолеть, смять посредством "надевания" на народ единственно правильной культуры — западноевропейской. Ничего другого они не видели, наши радетели!) Они не будут также и сокрушаться без конца, что нас недооценивают, не любят, ненавидят, плетут против нас какие-то сложные и темные козни и заговоры.
Уж, казалось бы, сколько упреков и претензий мог предъявить Сенгор, будучи черным африканцем, которого (доцента и уважаемого в парижских высоких кругах человека!) почтовый служащий в Дакаре бесцеремонно называл на "ты". Очень много мог бы предъявить, обидеться, возненавидеть и жить все время с этим комплексом неполноценности. Но он, став президентом вновь созданной африканской республики, наоборот, отстаивал и проводил политику сотрудничества с Французской республикой, бывшим "угнетателем". Потому что смотрел на дело гораздо шире. "Проблема, которая стоит теперь перед нами, черными, — говорил он в 1959 г., на II Конгрессе писателей и художников, — заключается в том, чтобы понять, как включить негритянско-африканские ценности в мир 1959 г. Это не вопрос возвращения к жизни прошлого, чтобы затем жить в африканско-негритянском музее, это вопрос оживотворения мира ценностями нашего прошлого..." Можно сказать только: да, это настоящее дело для нации. С него она и начинается.
Обогатить, оживотворить мир своими ценностями, а не смотреть в рот человеколюбивому богачу (или, согласно принятому в нашей современной речи эвфемизму, "спонсору"), ожидая подачек не только на уровне материальных ценностей, но и идей, и способов самовыражения, и образа жизни, не заимствовать без разбора и без ума и не догонять кого-то без конца. Догонять всегда бесперспективно, потому что, пока мы заимствуем что-то, осмысляем это что-то и пытаемся укоренить у себя, те, у кого мы заимствуем, изобретают что-то новое, более сложное и интересное. А мы при такой установке ничего не изобретаем и теряем саму способность изобретать, ведь для этого надо уметь смотреть на мир своими глазами, подходить к нему с неожиданной стороны, воздействовать оригинально. Нужно выдвигать свои идеи, чтобы что-то создать. В том числе и нацию.
Своя национальная идея, представление о себе самом, иногда простое и ясное, иногда очень сложное и многоэлементное, конечно, всегда есть некоторая целостность, ни в коем случае не случайный набор, и в нем должны просматриваться системообразующие оси и принципы. Откуда они берутся? Конечно, от прежней культуры. На голом месте возникают лишь случайные, неустойчивые, часто нелепые образования. Этнос даже в периоды распада и переформирования упорно хранит прошлое, отложившееся и систематизированное в культуре.
Культура — образование многослойное. В ней есть внешние сферы, которыми она соприкасается с социальной и природной реальностью. Это нормативные образования — правила и рекомендации, предписывающие конкретные формы поведения в конкретных ситуациях. И есть сферы более глубокие: системы представлений, включающие мнения, убеждения, идеологии, которые обосновывают, объясняют и подкрепляют нормативные структуры. А есть еще ценностное ядро культуры.
В развитой культуре очень много норм-правил (в самых разнообразных формах). Ими охвачены все сферы жизни: и трудовые процессы, и семейные отношения, и способы завязывания социальных связей (знакомство, "ухаживание", прием гостей и прочее, и прочее), воспитание детей, досуг, развлечения, рождение и похороны человека — все это приведено в систему, соотнесено друг с другом, украшено обрядами, расцвечено приметами, поверьями, песнями и сказками, т.е. представляет собою настоящий культурный космос. Этими-то своими конкретными формами культура и соприкасается с внешней ситуацией.
На внешние "подвижки" культура должна отвечать изменением, модернизацией своих внешних форм. Такое изменение происходит не бесконтрольно, но под наблюдением "средних этажей" культуры — представлений, убеждений и принципов.
Модернизация в здоровой культуре в принципе идет постоянно, только интенсивность ее может возрастать и снижаться. Естественно, в период переформирования общества, а тем более крутой переломной ситуации в жизни этноса на "средних этажах" культуры начинается большое оживление: выдвигаются новые концепции, складываются новые идеологии, формируются представления о возможных путях дальнейшего развития. Но так же как все новые формы проверяются на представления и принципы, так и эти новые концепции и идеологические структуры проходят оценку, проверку и отбор со стороны ценностного ядра культуры. Некоторые из них легко и органично вписываются в контекст и принимаются общественным сознанием различных групп, другие — "со скрипом", с бесконечными изменениями и трансформациями, а третьи отвергаются вообще. И если такие неприемлемые представления (и основанные на них нормативные формы) продолжают настойчиво навязываться людям, наступает ценностная реакция отторжения.
Это очень сильная эмоциональная реакция типа той, какую выдает любой живой организм, например на ожог, — судорожный рывок с последующими агрессивно-защитительными действиями, взрыв моральных чувств (гнева, возмущения, боли, обиды). Понятно, что человек, а тем более люди, охваченные такими чувствами, способны на разного рода эксцессы. С ценностями шутить нельзя, это вещь очень серьезная. И страшно устойчивая. В самой интимной, глубинной сфере личности носителя данной культуры они защищены сильнейшими моральными чувствами. И когда нарушается ценностное ядро культуры, люди теряют смысл жизни, теряют себя.
Что же это такое — "ценностное ядро культуры", которое, оказывается, существует не где-то абстрактно, "в культуре", а именно в нас самих? Начнем с основания, с того, что Чарлз Кули назвал когда-то "человеческой природой".
По его определению, под человеческой природой "можно подразумевать те чувства и импульсы, которые свойственны человеку и недоступны животным, в то же время они принадлежат человечеству в целом, а не отдельным его расам и эпохам. Это, в частности, симпатия и те бесчисленные чувства, в которые симпатия входит составной частью, например любовь, самолюбие, обида, тщеславие, героизм, а также ощущение социальной справедливости и несправедливости". И далее он поясняет: "...Человеческая природа — не что-то существующее отдельно, в индивиде, это — групповая природа, или первичная фаза общества". Человек с нею не рождается, ему прививает ее общество, а точнее, первичная группа.
Итак, социальная природа состоит, в свою очередь, из "чувств". Здесь нужно подчеркнуть, что в русском языке понятия "эмоция" и "чувство" разведены слабо и иногда используются как синонимы. Но в английском языке, а также в романских понятие "эмоция" закреплено за простыми переживаниями: страх, гнев, восторг... К "чувствам" же (сантиментам) относятся более сложные психологические процессы: дружба, любовь, чувство чести. Они могут сопровождаться эмоциями, но сами, в своей основе таковыми не являются. Таким образом, то, что мы привыкли в своем языке называть понятием "чувственного", в этой системе будет отнесено скорее к эмоциональному и собственно "чувствам" в определенной степени как бы противостоит.
Привитие человеческой природы и есть воспитание в человеке способности переживать "чувства", или "сентименты", которые — и это очень важно отметить — не замыкаются на самого человека, а обязательно включают другого. "Симпатия", входящая в "сентимент", — это способность сопереживать другим, сочувствовать (близко психологическому термину "эмпатия", под которым разумеется умение почувствовать другого изнутри, как бы войти в него). И "таким образом безличное не-я делается лицом, другим Я, то есть Ты" (отец П. Флоренский). Ты — не просто другой человек, Ты — это другой Я. Тут основа всякой морали: относись к ближнему, как к самому себе.
Первоначальное воспитание в первичной группе выводит из человека его природные эмоции, которые в естественном состоянии направлены на себя, как бы замкнуты внутри человека, и сосредоточивает их на другом или на других. Так возникает "сентимент", или "чувство". А вместе с тем и даже несколько ранее этого возникает единомыслие: если другой для меня — Ты, т.е. другой Я, то и мысли его — мои мысли, а чувства его — мои чувства. Я усваиваю их себе естественно, без всякого понуждения, без внутреннего сопротивления и недоверия, и не потому, что это для чего-то мне нужно.
Чувства передаются от человека к человеку на основании любви. "Любовь взаимная одна только и бывает условием единомыслия, единой мысли любящих друг друга, в противоположность с внешним отношением друг к другу, дающим не более как подобномыслие, на котором основывается мирская жизнь — наука, общественность, государственность и т.д." (отец П. Флоренский).
На поверхности в "сентименте" лежит плотный и слабо дифференцированный клубок чувств. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что чувства эти не просто переплетены друг с другом, но в центре их всегда что-то находится, какой-то предмет, на который все они и направлены. Всякий раз, когда человек будет входить в соприкосновение с этим предметом, в нем сразу активизируется вся сфера чувств-эмоций, взывая к действию, к поступку. В современном мире принято называть эти предметы "ценностями".
Любая культура закладывает в своих носителей примерно одни и те же ценности. Это механизм сам по себе глобальный, он представляет необходимое, первичное условие существования общества как такового. Но, безусловно, отдельные культуры различаются сравнительной значимостью этих ценностей, их связью друг с другом внутри культурного целого и отчасти, может быть, даже набором. "Оригинальность каждой из культур, — пишет Клод Леви-Стросс, — заключается прежде всего в ее собственном способе решения проблем, перспективном размещении ценностей, которые общи всем людям. Только значимость их никогда не бывает одинаковой в разных культурах, и потому современная этнология все сильнее стремится познать истоки этого таинственного выбора".
А нужно ли это разнообразие? Не лучше ли, если бы все воспитывались в одинаковых представлениях и ценностных иерархиях? Тогда люди сразу понимали бы друг друга и больше было бы единомыслия (или, как теперь говорят, консенсуса). В XIX в. так и принято было считать в науке. Предполагали, что разные способы построения культур (и в частности — их "ценностных ядер") связаны прежде всего с условиями жизни различных обществ, а также с историческими обстоятельствами и, далее, со степенью их развития. Есть культуры развитые и слаборазвитые, последние постепенно приближаются к первым, постепенно все сольются в гармоническом единстве, и мир будет представлять собой единое целое (примерно таково отношение к нациям в марксистской теории). Но в XX в. возникли другие концепции.
"Когда мы становимся на точку зрения всей совокупности человеческих обществ... мы видим, что каждое общество выбирает лишь некоторые из множества возможных вариантов" (К. Леви-Стросс). Именно эта дифференциация культур, "возобновляющаяся всегда в разных плоскостях, позволяет постоянно поддерживать — в самых различных формах, многообразию которых люди никогда не перестанут удивляться, — состояние неравновесности, от которого зависит дальнейшая биологическая и культурная жизнь человечества". Наличие вариантов страхует человечество от тупиков, вливает новые силы в дряхлеющие, когда-то передовые общества, и действительно, любая культура, когда-то считавшаяся "отсталой" и "дикой", имеет шанс в определенный момент "оживотворить мир своими ценностями".
Предположим. А чем мы можем оживотворить мир? Этим нашим бесконечным терпением, мимо которого ни один лихой иностранный мемуарист и ни один отечественный интеллектуал, побродивший по европам в поисках образования, не прошел, не пнув и не обозвав "тупым"? Этим нашим смирением, умением в своем представлении и воображении поставить другого выше себя, которое постоянно и упорно путается почему-то в головах европейцев и европеизированных русских с "рабской покорностью"? Какая-то она очень древняя и суровая, эта наша культура, требующая от человека сильного самоограничения, репрессии своих непосредственных внутренних импульсов, своих личных индивидуальных целей в пользу социальных групп и глобальных культурных ценностей. Все культуры в какой-то мере построены на таком самоограничении и на такой репрессии, без них нет культуры и нет общества вообще. Но важна также и сама степень. В нашей культуре эта требуемая от человека степень очень высока.
Может быть, еще несколько десятков лет назад такой вывод относительно собственной культуры был бы для нас огорчительным. Она бы показалась нам (и казалась тогда многим, кто думал над этой проблемой) какой-то уж очень "отсталой" и "архаичной". Ну были когда-то такие суровые времена, когда человек влачил жалкое, ограниченное существование, и тогда такое самоограничение было, наверное, необходимо ему для выживания. Но зачем оно в наш век, когда такую высокую ценность приобрело безграничное развитие всех способностей каждой личности, когда в качестве наиболее привлекательных ценностей фигурируют "многогранность" и "многосторонность" человека? А многогранность развития предполагает многогранность потребления (и, добавим еще, производства). Самоограничение как бы не пpизнает вообще этих главных ценностей, вокpуг котоpых "веpтится современный миp".
Но в последнее вpемя что-то стало меняться в миpовом общественном сознании, началось какое-то пеpеосмысление пpежних идеалов. Оказалось, что безгpаничность самоpазвития pешительнейшим обpазом пpотиводействует возможности самоактуализации. Для того чтобы сделать что-то ценное, что-то, что "пеpеходит" за мои пpеделы и остается в миpе после моей смеpти, нужно в какой-то момент пеpестать наконец бесконечно себя pазвивать и напpавить свои усилия вовне — на какое-то дело. Нужно начать отдавать себя. Дело — это выбоp, а выбоp — это всегда самоогpаничение. Но тогда часть моих "гpаней", и иногда значительная, pискует остаться в неpазвитом состоянии...
Постепенно все более осознается: "веpа в то, что в pамках ограниченного земного бытия можно достичь пpедельных идеалов человеческого существования", есть не что иное, как "социальный идеализм" (Б. Паpамонов). И отсюда делается вывод весьма пpимечательный: "Поскольку пpи такой установке это существование целиком заключается в pамки земных, попpосту физических условий, сами идеалы пpиобpетают чисто гедонистический, чувственный хаpактеp. Забывается, что само это существование имеет пpедел, что способность человека к "счастью" имеет естественную гpаницу". И еще более ясно: "...все pезультаты человеческой культуpы достигнуты вытеснением и pепpессией низшей чувственной пpиpоды человека или сублимацией ее. Идея неpепpессивной культуpы, не огpаниченной никакой pелигиозно-моpальной ноpмативностью, — самый большой соблазн и самая большая опасность совpеменного миpа".
И оказываемся мы со своей аpхетипической довольно суpовой культуpой, можно сказать, в самых пеpедовых pядах совpеменности: западная культуpа сделала всему миpу "пpививку" активности и динамичности, тепеpь эта активность начинает понемногу "pазносить" миp, и он нуждается в дpугой "пpививке", котоpая подняла бы ценность самоогpаничения. Такую пpививку могут сделать только культуpы сугубо pепpессивные. Потому и выдающийся фpанцузский публицист Жан Фpансуа Pевель в еженедельнике "Экспpесс" не без упpека в адpес западной мысли отмечал, что "все сколько-нибудь значительные идеи пpиходят в совpеменный миp с Востока".
Отметим здесь для устpанения могущих возникнуть недоразумений, что, когда мы говоpим о культуpах "pепpессивных", предлагающих человеку в качестве ценности "самоогpаничение", не следует понимать нас слишком упpощенно: будто никаких дpугих, так сказать, положительных, констpуктивных ценностей такие культуpы не пpедлагают, а пpедписывают пpосто поставить знак отpицания пеpед всеми теми "благами", котоpые считаются ценными в западных культуpах. Это не так. Каждая культуpа пpедлагает человеку свои "блага", свои положительные ценности.
Вспомним, как С.С.Авеpинцев анализиpует pазличие эллинистических и восточных культуp. Античный геpой, стоящий выше стpаха и надежд, не должен испытывать чувства жалости или умиления: "Испытывать жалость, тем паче внушать жалость вообще не аристократично, — "лучше зависть, чем жалость", как говоpит певец атлетической доблести Пиндаp. Позднее (античные философы) включают "жалость" ("элеос") в свои пеpечни поpочных стpастей, подлежащих преодолению, наpяду с гневливостью, стpахом и похотью". Это — эллинистическое начало.
А вот что пишет святой отец Исаак Сиpин (VII в.): "И что такое сеpдце милующее?.. Возгоpение сеpдца у человека о всем твоpении, о человеке, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемой тварью, а потому и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами проносит он молитву, чтобы сохранялись и очистились, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблении в сем Богу". Речь идет об одной и той же ценности, а отношение к ней не просто разное, но явно противоположное.
Или еще пример. Считают нас неделовыми людьми, и есть тому основание. Человек нашей культуры может взяться за дело и не завершить его, отказаться на полпути. Но самое интересное ведь понять, что же под этим лежит, почему мы такие неделовые? Беспечные мы или нетерпеливые? Уж этого нам вменить нельзя никак. Терпеливее нашего народа трудно найти. И трудяги мы, каких мало. Значит, нужно искать ценность, которая может останавливать нас на пути к цели. Где искать? В восточных культурах, откуда наши корни. Вот как преподобный авва Дорофей поучает свою братию (конец VI — начало VII в.): "Каково бы ни было дело, малое или великое, не должно пренебрегать им или не радеть о нем, ибо пренебрежение вредно, но не должно также предпочитать исполнение дела своему устроению, чтобы исполнить дело, хотя бы оно было со вредом душе... Будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно, как мы сказали, или мало, есть осьмая часть искомого, а сохранить свое устроение, если случится не исполнить дела, есть три осьмых с половиною". Даже количественно определено расстояние между этими ценностями. И так до самого святителя Феофана Затворника, жившего уже в XIX в. в России, написавшего кому-то из своей паствы: "Дело — не главное в жизни, главное — настроение сердца, к Богу обращенное". Везде труду, а точнее, делу отводится явно подчиненное место.
"Душевное устроение" — слово-то какое выразительное! — это что-то не просто сделанное, но заботливо подобранное, обустроенное, бережно хранимое. "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" Хотя, с другой стороны, тот же источник предписывает нам "положить душу свою за други". И мы полагаем, с гораздо меньшими терзаниями и сожалениями, чем наши деловые партнеры. Так мы воспитаны своей культурой. И поменять эти ценности местами означало бы для человека данной культуры перестать быть самим собой.
Тем не менее мы своей культуры не знаем... Она живет в нас, по существу, на бессознательном уровне. В основании нашего этнического характера лежит некий набор идей (или ценностей), которые в нашем сознании, сознании носителей культуры, связаны с интенсивно окрашенной гаммой чувств или эмоций ("сентименты"). Появление в сознании любого из этих элементов приводит в возбуждение всю эмоциональную сферу, вызывает бурные и яркие переживания, служит импульсом к более или менее типичному действию (если ситуация типичная, а то и просто к действию). Как бы цепочка такая: "предмет — чувство — действие", что можно досознательном уровне, по крайней мере на уровне довербальном. Этот импульс очень трудно выразить в словах, обосновать, переложить в систему осознанных, ясных представлений. Хотя, еще раз подчеркнем, переживания он вызывает очень яркие. Он вмонтирован в нашу психику очень глубоко, и импульс, возбуждаемый таким архетипом, бывает часто гораздо сильнее всего того, что может пробудить в нас любой элемент развитой рефлексивной структуры.
В нормальной культурно-однородной ситуации носители одних и тех же этнических архетипов понимают друг друга без слов. Пришел незнакомый человек в дом, снял шапку, поздоровался, стоит у порога, ожидая приглашения, — значит, что-то спросить хочет или предложить, в общем, с добрыми намерениями пришел. Если стоит в шапке и молчит, значит — с вызовом или претензиями. Если здоровается, но как-то быстро, холодно и через порог дома старается не переступать, — имеет вражду или обиду. Все понятно. Если этнос большой, расселен на обширных территориях, то, как мы уже отмечали, возникают варианты во внешних проявлениях — в поступках и реакциях. Но и тут еще как-то можно сориентироваться: приехал в отдаленные места, веди себя осторожно, присматривайся, прислушивайся, выясняй, "как у них тут принято". А вот когда с быстрой урбанизацией начинается движение масс из сел в города и наступает поистине вавилонское смешение, тут человек и вовсе теряет всякое представление, как ему вести себя по отношению к тому или иному человеку, который как-то непонятно себя ведет. И вот тут уже этносу ничего не остается, как переформировываться в нацию: рефлексировать, делать понятными свои ценностные структуры и ясными связями соединять их с разными типами поведения, "осваивать" новые, никогда ранее не встречавшиеся ситуации, предлагать новые модели, основанные на "коренных" ценностях, — и все это на осознанном, вербальном уровне.
И лучше, если эти процессы рефлексии и освоения новых ситуаций пойдут быстро. В длительной ситуации неясности, хаоса социальные архетипы могут начать терять свою четкость и убедительность, "размываться", и тогда задача "собирания" этноса в нацию будет становиться все сложнее в сложнее. Вновь формирующиеся поколения усвоят и сделают своим мировоззрением какую-то окрошку из разнородных элементов, преподносимую им средствами массовой коммуникации. Так воспитанную автономную личность уже очень трудно вернуть к ее этническим корням, хотя она и будет ощущать внутреннюю пустоту и "неустроенность", тосковать по цельности и определенности. Из такого в общем-то дезориентированного человеческого материала никакого полноценного, благоустроенного общества создать невозможно, никакой обновленной культуры, а уж тем более какого-то "нового человека". Возникают эпифеномены и квазиценности, человек пытается ставить себе жизненные цели "мимо" своих "настоящих" ценностей, а реализация таких целей не приносит ощутимого удовлетворения личности. Тогда возникают странности: попытки самоубийства на вершине карьеры или в очень благоприятных условиях жизни. А чаще, ощутив неудовлетворенность жизнью и ее бесцельность, человек попросту "тихо" спивается.
"Бесцельное существование, — пишет Ортега-и-Гассет, — это отрицание жизни, это хуже, чем смерть. Ибо жить — это значит выполнять какое-то задание; и поскольку мы уклоняемся от того, чтобы посвятить нашу жизнь чему-нибудь, мы ее опустошаем".
Нормальная личность не может самоактуализироваться, не может возвыситься над своим таким кратким и эфемерным существованием в этом мире, не реализуя сверхиндивидуальных ценностей. Однако "нормальная личность" — вовсе не "средний индивид", поскольку личность, даже и "нормальная", — само по себе явление выдающееся. Нормальная она потому, что именно она нормализует мир: делает его пригодным к существованию, приводит его в соответствие с человеческими ценностями. "Средний индивид" может сему содействовать, но только если для него эта деятельность чем-то привлекательна или чем-то вознаграждает его. "Нормальная личность" мотивируется самой целью. А потому, когда дезориентируется "средний индивид" и перестает действовать конструктивно, когда все приходит в хаос и начинают распадаться не только прежние этнические, но одновременно и организационные и формальные государственные связи, когда человек оказывается в ситуации полной неопределенности, требующей от него выбора, — вот тут-то и начинают включаться "нормальные личности" и активно взваливать на себя труднейшие задачи. Потому что в таких условиях дело и слово — именно за личностью.
Все наши человеческие структуры, в том числе и такие огромные, просто "необозримые", с точки зрения отдельного человека, как социальные институты, государство и само общество, — все они основанием своим имеют личность, ее ценности, ее системы представлений, ее волю к действию и согласие или несогласие жить таким-то и таким-то определенным образом. Не личность отдельного человека, конкретного индивида, а личность как тип, воспитанный данной культурой, носителя ценностей данной цивилизации. На нее и падает задача — собрать вновь в единый живой организм распавшийся этнос. Конкретнее — сформулировать и выдвинуть в виде понятных идей, представлений и лозунгов систему ценностей, отрефлексировать: что мы за люди, в каком мире мы хотим жить, какие условия и образ жизни были бы нам удобны и приемлемы, какие духовные принципы мы будем защищать и воплощать в жизнь.
В своей монографии "Современные нации" Флориан Знанецкий выдвигает такую идею: нация создается группой интеллектуалов, принадлежащих к данному этносу, своего рода умственной аристократией данной эпохи. Она может и должна выработать комплекс представлений, который ляжет затем в основу кристаллизирующейся национальной культуры. Напомним, что такая задача — вербализация существовавших до сих пор на подсознательном невербальном уровне представлений и ценностей народа — дело уникальное, осуществляемое только на переходе от предыдущих стадий развития этноса к нации, которая складывается, как мы подчеркнули, при условии существования автономной личности.
История утверждает, что национальные государства складываются в процессе распада феодального сословного общества. Массы людей выпадают из привычных исторических структур и не встраиваются ни в какие другие. Таких людей называют "аутсайдерами". Вот эти аутсайдерские массы и выделяют из себя активный фермент, начинающий формирование новой большой структуры, которая охватывает и упорядочивает своими отношениями разваливающееся общество, — нацию. Каким образом это происходит, можно проследить, допустим, на примере Польши по работам польского социолога Юзефа Халасинского.
Он описывает, как активизируется и изменяется деятельность салонов, возникших в Польше в начале XIX в. по примеру Франции, где они были распространены уже в XVIII в. и играли важную культурную и политическую роль. В 20 — 30-е годы жизнь в польских салонах особенно насыщена: здесь активно обсуждаются все более или менее значительные факты культурной жизни (не только культурной, конечно, но в данном случае именно это важно), все более или менее проявившие себя люди, столичные жители и приехавшие из провинции, обязательно попадают в салоны и имеют возможность там высказываться, развивать и обосновывать те или иные концепции, спорить с другими. Все новые идеи немедленно подхватываются и обкатываются общественным мнением. Немного позднее параллельно с салонами возникает и начинает активно функционировать сеть небольших столичных кафе, которые оккупируют кружки интеллигентов — художников, литераторов, артистов, ученых, нарождающихся предпринимателей (культурной их прослойки).
Затем появляются журналы. Чаще всего это не политические журналы, а научные, научно-практические и познавательные. Они, например, ставят своей задачей давать полезные советы земледельцам или ремесленникам. И в них звучит такая любовь, даже нежность к земледельцу и ремесленнику, к его судьбе, труду, уважение к его терпению и умениям. Как же, ведь это наш, польский крестьянин, представитель народа, который дал миру Коперника! Пусть пока он бедный и необразованный, но это не его вина, он может подняться и стать богатым и сильным. Мы должны ему в этом помочь, потому что мы — один народ, у нас общая судьба.
К концу XIX в. в Польше существовала уже "общественность", большая группа людей, прямо или по крайней мере косвенно знавших друг друга. "Общественность" формировала мнения, знала и поддерживала своих художников, литераторов, артистов, широко отмечала их юбилеи, проявляя свое уважение к их труду на общее дело, и в какой-то мере направляла их усилия. В начале XX в. национальное самосознание уже выработало комплекс представлений о себе как о народе, имеющем собственную оригинальную культуру, достойное уважения историческое прошлое и желающем самостоятельно строить свою судьбу, а не растворяться в каких-то больших, этнически безразличных государственных образованиях. Революция 1917 г., развалившая Российскую империю, создала возможность для поляков стать самостоятельным государством. И они оказались готовыми к тому, чтобы этой возможностью воспользоваться.
Подобные же процессы шли, по-видимому, в Финляндии, завершившись тем же. Чехия и Словакия в составе Австро-Венгрии переживали ту же опасность утраты собственной культуры. Одно время на грани исчезновения оказался чешский язык (местные диалекты продолжали существовать, но общенациональная литература и поэзия создавались на немецком языке). Только самоотверженными усилиями интеллигенции удалось возродить национальный язык. Во всех этих странах существовала трепетная любовь к своей культуре, боязнь ее потерять и борьба за ее выживание. И это сплачивало нации.
Совсем иначе обстоит дело с крупными, сильными государствами, образованными на основании какого-то этноса, но включавшими в свои рамки множество различных этнических "добавок" и разнородных культурных элементов. Их существованию ничто не угрожает, никто не покушается на их государственность и культуру. Опасность разрушения этноса зарождается и развивается внутри такого организма. В "вавилонском смешении", рожденном бурной индустриализацией и урбанизацией, нарастает безликая аутсайдерская масса, а этнические архетипы начинают терять свои очертания и "расплываться" в сознании своих носителей. Их не подкрепляют более культурные и социальные влияния извне, поскольку рушатся механизмы социального контроля, тысячелетиями работавшие на воспитание молодых поколений и на поддержание систем представлений, на которых социальные архетипы основаны.
Массы автономных личностей стремятся к самоутверждению и ищут себе благоприятные условия существования и развития "всяк на свой образец". Удерживают их в социально приемлемом состоянии в основном лишь внешние скрепы — формальное юридическое право и государственные органы его защиты. Для формирования внутренних, неформальных, сильных скреп (костяка, скелета взамен скорлупы или раковины) и нужна национальная идея, дающая индивидуальной жизни основание и участие в надындивидуальных задачах.
Вот тогда и возникают системы представлений о естественных правах человека, о достойном человека образе жизни (в различных вариантах, отражающих различие ценностных иерархий), постепенно внедряются в умы и выбрасываются в критические моменты в качестве лозунгов и девизов, объединяющих массы.
Россия была державой, которой после неудачного похода Наполеона ничто извне не угрожало. Кроме того, она была не просто этнически смешанным государством, но многонациональным, на огромных пространствах которого причудливо расселились и переплелись самые разнообразные, большие и малые, сильные и слабые этносы. Выработка национальной идеи в такой стране — задача очень сложная и трудная.
В XIX в. Россия выступила с одной популярной в сознании интеллигенции идеей: что ей необходимо догонять Западную Европу и устраивать свою жизнь по тамошнему образцу. Идеология Просвещения, господствовавшая в Европе в XVIII в., с ее культом разума и идеей однонаправленного неуклонного прогресса, была основанием для целой системы представлений о развитии исторического мирового процесса. Согласно этим представлениям, мир движется к некоторому состоянию, осознаваемому человеческим разумом как совершенное, постепенно накапливая в себе его элементы. Существуют некоторые стадии, как бы ступени приближения к нему. Существуют также стадии приближения к познанию этого состояния в человеческом представлении.
Все народы и страны проходят эти ступени, и всем предстоит достигнуть именно этого совершенного состояния. Одни народы движутся быстрее, другие медленнее, третьи вовсе еще не осознали такое движение как свою историческую задачу. И разные культуры — в принципе один и тот же субстрат, находящийся просто на разных этапах и стадиях "развития". Конечно, в философии этот комплекс идей имел весьма разнообразное преломление и по-разному обрабатывался научной мыслью, но мы здесь имеем дело с общественным сознанием, которое всегда упрощает научные представления (если оно их использует в своей работе) и сводит все многообразие к простой первооснове.
"Прививку" западноевропейское просветительское общественное сознание сделало нашему, российскому, в XVIII в., в период бурного заимствования с Запада технологий, научных представлений, философских идей, форм искусства, элементов образа жизни, вплоть до причесок, нарядов, обстановки и даже иноземных языков, вытеснивших в некоторых слоях аристократического общества русский язык в быту. "Прививка" продолжала действовать и после наполеоновских войн, пробудивших патриотические настроения. Заимствование перестало быть столь прямым и примитивным, но идеология гонки за лидером сохранилась. Когда аутсайдеров становилось все больше, умножились и вошли в повседневность "салоны" и "кружки", молодежь набросилась прежде всего на западноевропейские новейшие учения.
С середины 30-х годов начинается "упоение гегелевской философией". В кружке Станкевича, например, человек, не знакомый с Гегелем, считался "почти что не существующим человеком" (П. Анненков). В другом кружке, где был Герцен, подобным же кумиром стал Сен-Симон. "Герцен носился со своим Сен-Симоном на первых порах, как с Кораном, и рассказывает в собственных записках, что, явясь однажды к Н. А. Полевому, назвал его отсталым человеком за равнодушный отзыв о реформаторе". Национального же самосознания в этот период еще не было никакого. Целое поколение воспиталось на этой смеси из элементов гегельянства, шеллингианства, французского философского материализма и социального утопизма. И когда в середине сороковых годов сложилось и заявило о себе славянофильское направление, ему пришлось буквально пробивать стену накопившихся расхожих суждений и тривиальных истин, образовавшуюся и укоренившуюся в общественном сознании.
О необходимости осознания собственной культуры и ее проблем впервые заговорил, конечно, А.С.Хомяков. Это он в середине 40-х годов выдвинул и горячо отстаивал гипотезу, что петровские преобразования насадили в России элементы западной культуры, образец которой в качестве эталона и был принят высшими слоями общества. И это врастание в чужую культуру, по мнению Хомякова, оторвало образованные слои русского общества от народа. Народ продолжал жить в своей системе представлений, но при этом лишился притока новых идей, совместимых с этой системой, которые могли бы быть в нее включены. Образованные слои теперь пытаются нести народу просвещение уже по новому образцу, но ведь "просвещение есть не только свод и собрание положительных знаний, оно глубже и шире такого узкого определения. Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе".
Необходимо, чтобы те знания, которые передаются народу, те нововведения, которые предлагаются для его блага, отвечали на какие-то вопросы, разрешали какие-то проблемы данной, конкретной культуры. "На Западе всякое учреждение, так же как и всякая система, содержит в себе ответ на какой-нибудь жизненный вопрос, заданный прежними веками..." Но это ответы на их вопросы. Наша жизнь и история ставят перед нами другие задачи и проблемы, "а мы еще ничего не сделали, продвигаясь раболепно в колеях, уже прорезанных Западом, и не замечая его односторонности". Все статьи Хомякова этого периода полны беспокойства о том, что "разумного просветления всего духовного состава" в народе не происходит, а напротив — разрывается преемственность в культуре. "По мере того как высшие слои общества, отрываясь от условий исторического развития, погружались все более и более в образованность, истекающую из иноземного начала; по мере того как их отражение становилось все резче и резче, умственная деятельность ослабела и в низших слоях. Для них нет отвлеченной науки, отвлеченного знания; для них возможно только общее просвещение жизни, а это общее просвещение, проявляемое только в постоянном круговращении мысли (подобно кровообращению в человеческом теле), становится невозможным при раздвоении в мысленном строении общества".
Этот вывод подтверждает вся литература писателей-разночинцев второй половины XIX в. Она вновь и вновь ставит ту же проблему: почему русские крестьяне, кустари, мещане проявляют такое поразительное неумение и неспособность к творчеству новых форм социальных отношений?
Старые формы (например, способы земельного передела в общине) отработаны до ювелирного совершенства. Но стоит только возникнуть новым явлениям, которые ставят перед людьми новые вопросы, ставят их перед необходимостью приспособиться, трансформировав существующую социальную структуру, — "низшие слои", предоставленные самим себе, ничего не могут предпринять, кроме бессмысленных волнений и репрессий по отношению к тем, кто хоть немного выходит за пределы строго обозначенных правил.
А дело в том, что "низшие слои" не имеют притока идей от слоев образованных, которые в это время заняты освоением систем представлений, выработанных для решения совсем других, не наших проблем. Именно проблемы-то в этом случае и остаются без внимания — те, которые рядом. Хотя предполагается, что со временем мы их все одним махом разрешим, когда поднимемся "до уровня" передовой западной культуры.
Характерен эпизод, приведенный в воспоминаниях П. Анненкова, о лекции Грановского, который "...говорил все, что нужно и можно было сказать от имени науки, и рисовал все, чего еще нельзя было сказать в простой форме мысли. Большинство слушателей принимало его хорошо... Когда в заключение своих лекций профессор обратился прямо от себя к публике, напоминая ей, какой необъятный долг благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получили блага цивилизации и человеческого существования, — голос его покрылся взрывом рукоплесканий, раздавшихся со всех концов и точек аудитории".
Восторженная картина западной цивилизации, к которой, как к вершине, стремится общечеловеческая история, — и восторженная реакция публики, приученной воспитанием именно к такому изображению вещей. Еще одно подкрепление последовательно вырабатывавшегося в обществе рефлекса. Нельзя забывать, что огромные слои общественного сознания живут и движутся именно такими "рефлексами"; напряженная, критическая работа мысли — удел очень тонкой интеллектуальной пленки. В этой тонкой мыслящей "пленке" все обстояло гораздо сложнее. Тот же Грановский в 1845 г. на даче в Соколове, которую он снимал вместе с Герценом и Кетчером, после одного из грандиозных гостевых приемов, когда доверительные разговоры и откровенные споры затягиваются за полночь, в запале сказал одному из своих оппонентов: "А я тебе должен сказать здесь прямо, что во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопросам я сочувствую гораздо больше славянофилам, чем Белинскому, "Отечественным запискам" и западникам" (П.Анненков).
Это — показательное признание факта, что славянофилы с их теориями и взглядами ближе всего стоят к архетипическим, этническим глубинам, к ценностным структурам народного сознания. Славянофилы и западники не альтернативны, в перспективе они не должны исключать друг друга, поскольку их функция — друг друга дополнять.
Примерно в то же время, когда А.Герцен напечатал в "Отечественных записках" свою статью "Дилетантизм в науке", в которой давал право науке "нисколько не беречь дорогих преданий, убеждений, облегчающих существование людей и народов на Земле и уничтожать их без робости, как только они противоречат в чем-либо ее собственным научным основаниям", А.Хомяков предпринимает реабилитацию византинизма. "Объявляя византинизм великим и еще не вполне оцененным явлением в человечестве", А. С. Хомяков тем самым отрицал и уничтожал громадную массу исторических, критических и теологических трудов Запала, враждебных восточной цивилизации, понижая его кичливость и многие предметы его гордости, как, например, эпохи Реформации и Возрождения" (П.Анненков).
Естественно, встретившись в салоне Еланской, они не могли не вступить в спор. При первой же стычке Герцен, как он вспоминает в "Былом и думах", почувствовал крепкую и аргументированную оппозицию своей точке зрения. Хомяков отвергал саму предпосылку, на которой строились все рассуждения Герцена, а именно культ разума, наследие эпохи Просвещения. Он указывал на необходимость учитывать нравственные аспекты и духовные потребности человека. Герцен искал этих встреч и споров. Выступая в качестве оппонента, Хомяков заставил его прочитать толстенные исторические труды западных писателей и даже материалы всех вселенских соборов, познакомиться с догматикой православного учения, которой Герцен совсем не знал.
Глубоко проникнуть в концепцию Хомякова и принять ее целиком Герцен не мог, но не мог и опровергнуть, во всяком случае убедительным для себя самого образом. Тем не менее она в него как-то запала, и он, по-видимому, неоднократно возвращался к ней, особенно после того, как сам оказался в Западной Европе и на практике познакомился со всеми сторонами образа жизни, который так восторженно идеализировал. Позднее он скажет: "Наша европейская, западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами" (П. Анненков).
Но для того чтобы западники могли "овладеть" этими вопросами и построениями славянофилов, их нужно было извлечь из интуитивной, слабо осознанной сферы представлений и придать им форму логическую и вербальную.
Нужно было, чтобы сказанные слова превратились в понятия с четко выявленным содержанием, нужны были разъяснения, определения, дефиниции. Нужна была настоящая продуманная и ясно изложенная концепция. Всего этого сделать славянофилы не смогли. Они даже не успели сказать тех слов, которые можно было бы считать основными отправными точками концепции.
Хомяков неожиданно умер от холеры в 1860 г., в возрасте пятидесяти шести лет, в расцвете творческих сил. Остался архив материалов по русской истории, которую он собирался написать со своей оригинальной славянофильской точки зрения. Друзья укоряли его за медленную работу, считали лентяем, пытались засадить его за писание, закрыв в кабинете на ключ. Но, по-видимому, дело все-таки было не в лени. Собранный большой исторический материал требовал напряженного осмысления, вживания в него, "претворения" его в концепцию, во что-то цельное и завершенное, а такой процесс невозможно ускорить или замедлить, он совершается в своем ритме и темпе.
Был и целый ряд обстоятельств, тормозивших этот процесс осмысления и формулировки идей и ценностей. Одно из них мы здесь затронем как весьма важное, продолжающее существовать и до настоящего времени.
Мы пытаемся осмыслять свои этнические ценности в чужой, заимствованной системе понятий — в понятиях научной психологии, фрейдизма, западных философских систем (поскольку своих философов, как правило, не знаем или знаем гораздо хуже, чем иностранных), западных политических структур и разного рода социальных и культурных концепций, взятых из чужого общественного сознания. В терминологии наших наук очень много понятий, попросту калькированных из чужих языков, они прочно вошли не только в научный язык, но и в язык общественного сознания, причем в последний они входят уже эмоционально ярко окрашенными.
Попробуйте сказать типичному представителю нашего, современного общественного сознания, что "демократия" как явление имеет свои отрицательные стороны, — он возмутится праведным гневом, он зачислит вас в разряд "противников демократии", "ретроградов", он вам приклеит массу ярлыков и штампов, потому что он не может думать о "демократии" иначе, как только восторженно и с придыханием. А ведь мы все — представители общественного сознания, и в большей или меньшей степени — типичные. Какой тут возможен объективный анализ, тем паче — критический разбор?
Но альтернативной, собственной системы понятий в нашем языке не выработалось. Только Ломоносов в XVIII в. предпринял этот труд — перевод научной терминологии на русский язык, и введенные им слова ("кислород", "водород", "широта", "долгота") удачно вписались в язык, в том числе и в разговорный, используются ныне нами очень естественно. И насколько удобнее использовать их в любых описаниях — структура явления, за ними стоящего, просвечивает отчетливым образом в структуре самого слова. Хомяков отлично осознавал опасность, подстерегающую человека, пытающегося описать какое-либо своеобразное этническое явление с помощью заимствованных из чуждой среды слов. Он вообще придавал языку очень большое значение, считая, что через наше сознание язык влияет на мир и более всего — на реальность: "Дайте какой бы то ни было власти название иноземное, и все внутренние отношения ее к подвластным изменятся и получат иной характер, который не скоро исправится. Назовите Святую Веру религией, и вы обезобразите самое Православие".
Осталось нераскрытым и неописанным одно из основных слов, которое славянофилам все-таки удалось сказать: "соборность". Какое-то явление оно описывает, которое отчасти пересекается с "демократией" и имеет с ней какие-то общие элементы. Но в только что начавшей формироваться концептуальной системе славянофилов равенства между этими понятиями нет, соборность имеет какие-то свои характеристики, о чем мы сейчас можем только догадываться по отдельным, разбросанным в разных работах замечаниям. А. Хомяков: "Желательно, чтобы сход решал дела приговором единогласным. Таков был издревле обычай славянский... Если уже нельзя получить решение единогласное, лучше передать дело посреднику, излюбленному от всего схода. Совесть и разум человека, почтенного общим доверием, надежнее, чем игра в счет голосов".
С уходом из жизни Хомякова и Грановского, с эмиграцией Герцена эта тонкая аналитически и критически мыслящая пленка нашего тогдашнего общественного сознания получила весьма сильные повреждения и разрывы. И минимизировалась возможность не только выработки, формулировки этнической концепции, системы представления народа о себе самом, но и "привития" этой концепции общественному сознанию. Нарушились тесные связи внутри аутсайдерского слоя, что, в свою очередь, сильно уменьшило возможность достичь какого-то необходимого уровня единомыслия, взаимопонимания.
И тут подкатил период массового аутсайдерства, когда разночинская масса стала расти в геометрической прогрессии. Уже в 1845 г. на дачу в Соколово народ приезжал в таком количестве, что не умещался внутри дома и столы приходилось выносить на улицу, на лужайку перед домом. А через несколько лет даже ядро разночинского "сословия" не смогло бы разместиться ни на какой отдельно взятой даче. Там, в Соколове, люди еще находили возможность непосредственно, интимно общаться друг с другом, говорить по душам, с полной искренностью. А ведь только в таких условиях и возможен обмен мыслями, то, что называется "филиацией", т.е. проникновением и движением идей из одного сознания в другое: люди общаются без фильтров, непредубежденно, с полным доверием друг к другу. И тогда происходит сближение точек зрения и убеждений.
Поскольку интеллектуальная пленка аутсайдерства ослабела, а масса его росла быстро, влияние на нее аутсайдерской элиты стало малозаметным. Вновь прибывающий в столицы человеческий "материал" не успевал проходить "обработку" уже выработанными системами представлений и убеждений.
А это вело к понижению уровня массы. Молодые люди прибывали из провинции в университеты и другие учебные заведения со смутным чувством глубокой неудовлетворенности и обиженности на жизнь, но уже с прочно сформированной установкой на то, что у нас все отсталое, что нам нужно "догонять Европу" (вот у них, там — действительно жизнь, а мы здесь прозябаем, обречены на неполноценное существование!), с довольно слабыми способностями к анализу, теоретическому мышлению, зато с огромной жаждой действовать и все вокруг себя переделать. Они-то и составляли основной "субстрат" аутсайдерской массы. Вырабатывать из себя она могла только все те же штампы и тривиальности, которые бессознательно усвоила из сознания общественного. А прежде и больше всего она настроена была учиться (что в принципе было правильной установкой) и страстно набрасывалась на французские журналы, французских историков, немецких философов, а позднее — на политэкономические доктрины разного рода. Но не для того, чтобы в чем-то разобраться, подумать, сопоставить с реальными проблемами, собственными и страны в целом (последних она вообще не знала и не представляла), а для того, чтобы найти сразу же, немедленно простое и прямое руководство к действию.
И, как всегда бывает с догоняющими, масса усваивала зады европейской мысли. По воспоминаниям П.В.Анненкова, в круг чтения входили: "Книга Прудона "De la propriиte", тогда уже почти что старая, "Икария" Кабе, малочитаемая в самой Франции, за исключением небольшого круга мечтательных бедняков-работников; гораздо более распространенная и популярная система Фурье, — все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов, чаяний всякого рода...
В промежутке 1840 — 1843 гг. такие трактаты должны были совершить окончательный переворот в философских исканиях русской интеллигенции и сделали это вполне. Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему обсуждению и изучению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников". Это — еще до наступления периода массового разночинства.
Позднее кумирами стали Конт и Спенсер, потом в дело пошли Бюхнер и Молешотт, Милль и Маркс. Теории не очень высокого уровня, но отличавшиеся большой определенностью выводов, часто весьма косвенно вытекавших из анализа материала, а то и вовсе из него не вытекавших, но бывших просто преломлением любимых философских идей и убеждений автора. В марксизме важно было, что он как бы вовсе не содержал в себе смущенных оговорок, гипотетических предположений, наоборот, вселял в читателя чувство уверенности, давал ему право что-то осуждать, чему-то сочувствовать, звал к борьбе и вселял надежду на победу, хотя бы в отдаленном будущем.
Из сменявших друг друга западных учений делались выводы совершенно абстрактные и практически бесполезные для той настоящей деятельности, в которой так нуждалась в те времена страна. Естественно, что на таком основании совершенно невозможно было выдвинуть никакой национальной идеи. И даже вопрос об этом не стоял. Хотя к народу в принципе относились очень положительно и даже с уми- лением.
Крестьянское сознание, конечно, не могло воспринять всерьез ту окрошку из иностранных философских и экономических доктрин, партийных программ, составленных во Франции и Англии для решения местных проблем, абстрактных постулатов и практических рецептов, неизвестно на какую ситуацию ориентированных, которую несли им молодые разночинцы, имевшие целью не столько просветить их, сколько этим просвещением возбудить против царя и существующей власти. Все это совершенно не было связано с реальной крестьянской жизнью, которой пропагандисты не знали. Только наиболее вдумчивые из них, например Глеб Успенский, пожив среди крестьян, приглядевшись к их жизни, начинали понимать, что существование крестьянина — это вовсе не "влачение по браздам", как им казалось издалека. Что жизнь его насыщена не только напряженным трудом, преодолением многочисленных трудностей, но и праздниками, своими эмоциональными взлетами, что в нем своя эстетика. Короче, что крестьянская жизнь, уклад и обиход — это сложная система, включающая в себя множество пригнанных друг к другу элементов, связи между которыми отлажены веками и тысячелетиями, и что нельзя по произволу (или, что одно и то же, исходя из каких-то совершенно абстрактных постулатов) изымать из этой системы элементы и заменять их какими-то другими, вовсе на эту систему не рассчитанными, не рискуя обрушить всю систему.
Осознав провал своих намерений немедленно просветить и направить темных крестьян, разночинная интеллигенция должна была ухватиться за учения, предлагающие ей "объективно действующие законы истории", которые все равно, независимо от сознания населения, ведут куда надо и в конечном счете "пробьют себе дорогу". В этом настроении — одна из причин огромной популярности марксизма в России.
Конечно, сказать, что в 50 —80-е годы XIX в. в русском разночинстве вообще не было никакого критически мыслящего слоя, было бы и несправедливо, и попросту неверно. Подспудная работа мысли не прекращалась. Молодые интеллигенты, поварившись в столичных кружках, походив "в народ", поездив по России, что-то начинали осознавать, обдумывали свой опыт, полученный в наблюдениях материал, спорили, обсуждали. Те же самые люди, которые в 60 — начале 70-х годов ходили в народ, в 80-х уже смотрели на этот этап своей жизни со снисходительной улыбкой, как на неизбежное ребячество. Но все это стоило сил. И жизней. И очень слабо усваивалось вновь прибывавшими волнами молодежи, сознание которых было заштамповано предыдущим этапом развития общественного сознания и которые ничего не желали слушать, начиная все вновь, с "нулевого цикла".
Михайловский и Ключевский адаптировали западные социологические теории, накладывая их на отечественный материал, которым они владели; прямолинейный "охранитель" Леонтьев писал свои статьи о византинизме, исполненные очень метких замечаний и дерзких гипотез, не опасаясь противопоставляться самым "любимым" доктринам тогдашнего общественного сознания.
Данилевский издал свою книгу "Россия и Европа". Постепенно накапливался систематический статистический материал. Владимир Соловьев открыл для невежественной в религиозном отношении разночинной интеллигенции православие, как "терра инкогнита", — и воспитал себе последователей.
Именно эта струя общественной мысли, пробиваясь подспудно через все нагромождения тривиальных мыслей, накопившихся в общественном сознании еще с XVIII в., постепенно набирая силу, породила наконец "веховцев", и это уже был постмарксистский этап развития русской разночинной — и не только разночинной — мысли.
Это был непреходящий вклад в историю русской мысли. Сожалеть можно лишь о том, что плод созрел слишком поздно.
"Веховцы" были людьми, выварившимися во всех растворах. Многие получили в детстве традиционно религиозное воспитание, потом стали материалистами, марксистами, пережили возвращение к идеализму и почти все в конечном итоге вновь сознательно пришли к религии. На этом длинном пути они получили огромный личностный опыт и хорошо его осмыслили.
Однако потребовалась еще революция 1905 г., чтобы эта часть интеллигенции, объединившись вокруг сборника "Вехи", решилась противопоставить себя всей остальной интеллигентской массе и бросить ей упрек, что путь, по которому она ведет страну, — путь в никуда. На это обвинение последовала бурная реакция: поток оправданий, контр-обвинений, поношений. Тем не менее сборник выдержал в течение одного года более десяти изданий. Тенденция себя отстояла, закрепилась и стала набирать силу. В 1918 г. "веховцы" подготовили второй сборник, который они рассматривали как продолжение первого. Он назывался "Из глубины". И здесь идея восстановления культурной преемственности зазвучала уже в полную силу.
"Самым безобразным детищем того, что называется современной культурой, является именно ее плоскостность, ее отрицание времени, рода и племени. Безродность как осуществляемое начало есть начало неосуществимое, в этом заключается осуждение всех окрашенных им течений мысли". Необходима "связь мысли личной с мыслью вселенской через мысль рода и народа" (П. Новгородцев). Рационалистический утопизм, характерный для русского интеллигентского сознания, проявляется, по мысли авторов, в стремлении "устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия", а это влечет за собою "кризис общественности".
Но критика "безродности" интеллигентских построений — совсем не возвращение к идеям народников 60-х годов: одновременно порицается также и вера в то, "что народ всегда является готовым, зрелым и совершенным, что надо только разрушить старый государственный порядок, чтобы для народа тотчас же оказалось возможным осуществить самые коренные реформы, самую грандиозную работу общественного созидания". "...Следовало бы сказать, что народу и интеллигенции надлежит быть вместе в служении некоторому общему делу, стоящему выше народных желаний и интеллигентских теорий. Такому требованию одинаково противоречит и ломка народной жизни по отвлеченным требованиям интеллигентских утопий, и возведение народных желаний в степень идеалов государственного строительства". Со времени народников и тем более со времени славянофилов уже многое изменилось как в мире вообще, так и в русском общественном сознании. "Значение совершившегося в России и совершающегося в мире есть внутреннее уразумение родства и соборности. Мир испокон века держится родством и соборностью..." (В. Муравьев).
Для того чтобы государство представляло собой прочное духовное единство, "оно должно утверждаться на общем уважении и общей любви к своему общенародному достоянию, и оно должно в глубине своей таить почитание своего дела, как дела Божия" (П.Новгородцев).
И наконец, постановка задачи. "Судьбы народов движутся и решаются не рассуждениями. Они определяются стремлениями, в основе которых лежат чувства и страсти. Не всякие такие стремления выливаются в идеи, в них формулируются. Явиться могучей движущей и творческой силой исторического процесса страсть может, только заострившись до идеи, а идея должна, в свою очередь, воплотиться в страсть" (П.Струве).
Как видим, такая постановка проблемы вполне соответствует всему описанному нами: необходимо выработать комплекс идей, основанных на ценностных структурах ("стремлениях" и "страстях"), который должен, в свою очередь, "воплотиться в страсть", т.е. быть воспринятым как ценность. А для этого вырабатываемые идеи должны совместиться с теми неосознанными структурами, которые уже и ранее существовали в массах, с тем, что мы назвали выше "социальными архетипами".
Нужно только поставить себя в контекст истории и культуры своего народа, ощутить себя его частью, ощутить связь с его судьбою и прошлым, уразуметь, что века и тысячелетия, прожитые народом, не безвременье и бескультурье, но процесс, в котором нечто существовало, созидалось, поддерживалось.
Нужно пожелать включиться в этот процесс и отнестись с уважением к тому, что было сделано до нас, "чтобы благочестие Сергия Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех миллионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бедняков, бестрепетно и бескорыстно умиравших за Россию, были для тебя святынями. Ибо этими святынями творилась и поддерживалась Россия как живая соборная личность, как духовная сила" (П. Струве).
Так была поставлена задача. Но на ее реализацию история не оставила времени. Сам сборник "Из глубины", оконченный печатанием в 1918 г., не вышел из складов типографии, а еще через несколько лет и читать его в России стало, по существу, уже некому.
Русская интеллигенция, прошедшая длинный и извилистый путь формирования и самоосознания, частью была истреблена, частью эмигрировала за пределы страны, оставшаяся была загнана в глубокое подполье. А народ остался в донациональном состоянии. И его положение при вступлении в новый этап своей истории можно описать словами, которыми еще в XIX в. Герцен описывал одного из революционеров, прибывших к нему в Лондон из России: "Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей, но еще не приписался ни к какому делу и обществу — цели не имел... От постоянной критики всего общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведения... Он далеко не оселся, не дошел ни до какого центра тяжести, он был в полной ликвидации всего нравственного имущества. От старого он отрешился, твердое распустил, берег оттолкнул и, очертя голову, пустился в широкое море".
Более полувека безвременья вовсе не продвинули нас вперед в решении наших этнических проблем — тема эта считалась закрытой, окончательно упраздненной, и говорить о национальных вопросах применительно именно к русским считалось неприличным, шовинизмом, оскорблением чувств прочих российских национальностей, для которых их собственные национальные и этнические проблемы тем не менее не снимались, а снисходительно поощрялись. Но вот эксперимент с построением социализма окончился ничем. И мы опять стоим примерно в том же пункте, в котором встретила революцию старая русская интеллигенция.
Запрет на тему теперь вроде бы снят. Мы постепенно осваиваем то, что было сделано до нас: Федотова, Ильина, Флоренского и других. Окружаем не просто уважением, но пиететом русскую культуру. Пока наше обращение к ней сводится в основном к апологетике. Это, безусловно, нужно и полезно, особенно сейчас.
Но хорошо бы отдавать себе отчет, что восхваление само по себе задачи не решает. Для того чтобы что-то конструктивно созидать, нужно иметь знание. В данном случае знание о себе самих. А мы о себе самих продолжаем говорить до сих пор в чуждом языке, чужими словами; оперируем чуждыми нам схемами и концепциями. По существу, мы просто пытаемся, оставив ту же систему представлений, какую выработало для нас безвременье, поменять знаки на обратные.
Представляли нам долгое время социализм как общество всеобщего блаженства, а капитализм — как исчадие ада. Теперь мы сделаем все наоборот: представим себе капитализм как источник благоденствия, а социализм — как исчадие ада, и дело с концом. Вроде бы все подтверждается реальностью: народы, выбравшие себе капитализм как принцип организации производства и распределения, действительно создали благосостояние, а мы, выбравшие социализм, пришли к развалу и нищете.
Что же тут обсуждать? А обсуждать много чего есть. Потому что существует еще не один важный пласт человеческих отношений, который специально никакому укладу не принадлежит, но играет важную роль в общей организации социума или социального космоса. Только весь этот космос в целом может обеспечить благосостояние.
Польская писательница Э.Ожешко еще в конце прошлого века выразила это очень хорошо: "Производство, созидающее благосостояние и дающее возможность пользоваться материальным комфортом и благами жизни, может осуществляться систематически и эффективно только в таких обществах, где есть моральные элементы и движущие силы, такие, как взаимопонимание и порядочность, уважение справедливости и признание взаимных обязательств, забота об общественном всеобщем благе.
Там, где не хватает таких элементов и стимулов, там человеческий труд начинает количественно уменьшаться и качественно ухудшаться, всякому взаимодействию препятствует взаимное недоверие; под влиянием эгоизма отдельных индивидов распадаются социальные связи и нарушаются те пружины, которые поддерживают социальные стремления. Там уменьшается и само материальное богатство, пересыхают глубиннейшие источники средств к существованию... Народ, который остался сегодня без чести, завтра останется без хлеба".
Вроде бы мы все это и признаем, но отделываемся от проблемы слишком легко: сам капитализм, рынок, когда мы его введем, нам все это и наладит. И тем самым обнаруживаем глубоко в нас сидящий марксистский способ мышления: экономические отношения определяют все.
А как да не определяют? Может быть, мы и со своим "социализмом" (про него никто определенно не знает, что это за строй такой, может, он и в состоянии развить внутри себя какую-то форму рынка) пришли бы к какому-нибудь приличному образу жизни, если бы не нарушили вот этой моральной стимулирующей основы человеческого поведения сначала трудармиями, потом — репрессиями и концлагерями, затем — ложью и лицемерием. А Западу удалось пронести свою моральную основу через все революции. Для такого рода ценностей безвременье, особенно затянувшееся на десятилетия, по-видимому, разрушительнее всех революций, ибо в период безвременья воспитываются поколения людей.
"На примере нашей судьбы мы начинаем понимать, — писал С.Франк в 1917 г., — что на Западе социализм лишь потому не оказал разрушительного влияния и даже, наоборот, в известной степени содействовал улучшению форм жизни, укреплению ее нравственных основ, что этот социализм не только извне сдерживался могучими консервативными культурными силами, но и изнутри насквозь был ими пропитан; короче говоря, потому, что это был не чистый социализм в своем собственном существе, а всецело буржуазный, государственный, несоциалистический социализм...
Внешне побеждая, социализм на Западе был обезврежен и внутренне побежден ассимилирующей и воспитательной силой давней государственной нравственной и научной культуры". Но эти же могучие культурные силы, не давшие социализму проявить свои разрушительные свойства и направившие его в русло созидания, точно так же ведь "обезвредили" и внутренне "победили" и капитализм, сделали и его созидательным.
Сами по себе ни капитализм, ни социализм не являются абсолютно плохими или абсолютно хорошими, в каждом из них много возможностей и вариантов.
Соответствующий уклад как бы наслаивается на сложившиеся культуру, политический строй, обычаи, и от этих первичных элементов зависит, какие формы приобретет капитализм или социализм в данной стране, какие представления и ценности он будет поддерживать.
Стихийные же рыночные процессы, ничем не сдерживаемые и не облагораживаемые, начинают разрушать саму первооснову, особенно если она и ранее уже была в достаточно обветшавшем состоянии.
Мы сейчас входим в период этих стихийных рыночных процессов. Для того чтобы капитализм у нас сложился и стал созидательным, нам придется потрудиться, обживая и окультуривая его для себя. Наши культурные — моральные и ценностные — компоненты должны сказать здесь свое веское слово. И они все равно его скажут. Но лучше, чтобы они его сказали не через семьдесят лет, когда материальные и культурные ценности подвергнутся еще одному капитальному разрушению, а какие-то химерические и никого не устраивающие экономические структуры успеют уже сложиться и затвердеть.
Активная и осознанно осуществляемая адаптация сохраняет массу сил и ресурсов. Но для такой адаптации нужно хорошо знать, к чему конкретно мы хотим адаптировать этот рынок, и не только рынок, но и свободу и демократию, о которых мы так долго и горячо мечтали.
С реальными явлениями нельзя работать на уровне слов и чистых идеалов. Здесь необходимо знание на уровне структур и механизмов. Вот соприкоснулись мы с вожделенными свободой и демократией и обнаружили, что демократия в наших стихийных условиях иногда отбрасывает нас к безвластию, а "невежественная свобода", по выражению одного из древних подвижников, "есть матерь страстей" (авва Исаак Сирин).
Столкнувшись с такими парадоксами, мы склонны уходить от проблемы, утверждая, что это не "настоящие" свобода и демократия. А какие настоящие? Спросите нас про ту же демократию: какая она должна быть? А такая, чтобы всем было хорошо!
И больше ничего мы не сможем ответить, потому что под этим понятием у нас нет совершенно никакого содержания. И то же со свободой: понятно, это когда человек может делать так, как он хочет, но, безусловно, чтобы не причинял никому вреда. И попробуйте представить себе, как можно такое требование осуществить. Как раз тут наши представления самые расплывчатые и неконкретные.
Осознав свою некомпетентность, мы сразу же обращаем взгляд на Запад (как в течение многих веков). А как у них там это устроено? У них устроено в принципе неплохо. Так что им хорошо. Но не следует забывать, что это "хорошо" зависит очень сильно от ценностей, признаваемых в той или иной культуре. То, что с точки зрения их культуры хорошо, с нашей точки зрения может таковым не оказаться.
И опять мы приходим к тому же вопросу: надо бы нам знать твердо, как же мы хотим жить. Естественно, мы хотим, чтобы страна была богатая, сильная, чтобы нас уважали.
Мы всегда этого хотим. Мы хотим, чтобы было много хороших продуктов, вещей, чтобы все это можно было купить. Но прежде чем все это появится на наших прилавках в достаточном количестве, все это необходимо произвести. И именно нам, не кому-то другому. Человек должен быть мотивирован к производству, к труду. Что-то находить для себя в самом процессе труда, выстроить какой-то устраивающий его образ жизни.
Общество ведь в конечном счете — не что иное, как большой механизм, имеющий целью все это устойчиво обеспечивать. Каждое общество действует тут своими способами.
Вот об этом-то и идет речь. Мы должны понять, какой именно вариант образа жизни, а тем самым и общества хотим иметь. И когда мы это сформулируем, будет сделан решающий шаг на пути к образованию из нас нации.
Но прежде чем мы сформулируем идею, нам придется создать свой язык. Нужно перестать играть словами, под которыми нет конкретного смысла. Если говорить о "соборности", нужно понимать, что это за понятие такое. Славянофилы, пустившие его в обращение, не оставили четкого определения. Нужно раскрыть, что мы вкладываем в понятие "духовность", которым мы так любим оперировать, потому что у него много различных смыслов. Нужно многое понять, осмыслить и определить. Иначе мы будем топтаться на месте.
Время же идет, и социальные архетипы, основа нашего этноса, постепенно бледнеют и стираются. Другими словами, задача формулировки национальной идеи, способной нас всех сплотить, становится все сложнее и труднее.
Кто-то может сказать: ну и пусть они себе стираются, эти архетипы. Освободимся от них и ассимилируемся в какую-нибудь приличную европейскую культуру.
Чем плохо? Однако ассимиляция также требует труда, и она осуществляется медленно. Это означает еще несколько десятилетий, а может быть, и веков безвременья. Целые поколения будут жить в условиях "непонятно чего". Потому что архетипы — это только связующие звенья, способ осуществления ценностей. А ценностное ядро в нас живо и сильно. Оно только заблокировано отсутствием адекватных средств выражения. Но оно активно сопротивляется и будет сопротивляться всем способам проявления чуждых для него ценностей. Это процесс болезненный. И в конечном счете ассимиляция — менее интересный и ценный результат, чем создание собственной нации на основе собственного этноса. Мне так кажется. И я думаю, что не мне одной. Вот мы и есть материал для будущей нации.
Деятельные и активные люди уже мобилизуются на защиту этнических ценностей. Но пока нет четко выраженной идеи, эта "борьба за..." по существу превращается в защиту пустого места.
Не совсем, конечно, пустого. Что-то на нем есть, какой-то материал для будущего здания, но работа здесь не ведется, поскольку нет проекта. Вот разработка проекта и есть задача настоящего момента.
И так создание нашей нации превратилось в долгострой, в работы, которые время от времени замораживаются, время от времени вновь начинаются на все более и более разрушающейся строительной площадке.
В промежутках, естественно, часть строительных материалов разворовывается, часть ржавеет и гниет. А проекта все нет, и работы ведутся подо что-то такое неопределенное, в будущем.
Пора взяться за дело с умом. "Да смыслиши о всех, яже твориши", — сказал Господь Иисусу Навину. Он вложил в нас разум, дабы мы им пользовались и действовали осмысленно.
А пока о нас можно сказать только то, что было сказано в самом начале: мы — большой народ и ярко выраженный этнос с древней и оригинальной культурой, но мы пока что не нация.
1995 г.
Источник: "Иное. Хрестоматия нового российского самосознания.". Опубликовано: Русский Журнал, 1997 г.
|