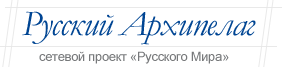|
Александр Морозов
 Версия для печати
Четвертая секуляризация
Первая секуляризация была осуществлена самим Спасителем, который высвободил веру из-под закона, разъял связь между верой в Господа и этнической эксклюзивностью иудеев
Три с половиной секуляризации
Если глобализация влечет за собой новый этап секуляризации — то в чем суть этого нового этапа?
Прежде чем попытаться ответитьна этот вопрос, нужно напомнить, что до постсовременности было, по-видимому, «три с половиной секуляризации». Первая, собственно говоря, была осуществлена самим Спасителем, который высвободил веру из-под закона, разъял связь между верой в Господа и этнической эксклюзивностью иудеев. Несомненно, что здесь содержится «секуляризация» в том смысле, что национальному предоставляется автономное бытие. С того момента, как зазвучала проповедь Господа Иисуса Христа, этническое должно искать себе свое собственное (внерелигиозное) основание, в то время как вера обретает универсалистский характер.
Вторая секуляризация — августинианская. И это, несомненно, высвобождение социального. Августин вел полемику со сторонниками «харизматически-эсхатологического» понимания Церкви, с донатистами, которые настаивали на «полном отделении христианства от государства в традициях раннехристианского мученичества». Цель этой полемики со стороны Августина — утверждение кафоличности Церкви, «массовой народной церкви», в противовес донатистской «катакомбной общины праведников». Одновременно, Августин осуществил «секуляризацию римской истории», отказываясь видеть в развитии Империи перспективу осуществления Царства Божия. Царство Божие у Августина «приобретает новое, бесконечно трансцендентное качество, исключающее его отождествление с любым из земных государств» (85). Концепция Двух Градов Августина, несомненно, открыла ту перспективу, в которой стало возможным современное европейское правовое государство, опирающее на собственные, автономные начала. (Подробнее об августианской секуляризации социального см. Петер Козловски. Государство и общество. Неизбежный дуализм. С.63-94).
И наконец, третья секуляризация, а затем и сам термин, обозначающий автономность крупных сфер человеческой практики (искусства, политики, науки и т.д.), возникает применительно к эпохе Возрождения. Под автономностью имеется в виду утверждение собственных — без теологии — оснований для этих сфер. И эта — третья — секуляризация, как процесс, продолжалась вплоть до своего пика в XIX веке, когда научный дискурс не просто стал господствующим, а превратился в своего рода религию.
Надо ли рассматривать «атеизацию» периода зрелого модерна — то есть эпоху коммунизма и нацизма — как отдельную «секуляризацию»?
К первой мировой войне мир подходил на пике секуляризации — повсеместным явлениям был антиклерикализм. И на Западе и у нас — на Востоке — духовенство воспринималось как каста. Как изолированная социальная группа, которая является спутницей умирающей аристократической культуры. Определенный парадокс заключался в том, что в массе своей духовенство в Европе рекрутировалось из небогатых семей, из разночинцев, однако в общественном сознании оно воспринималось как сервильная группа при европейских монархиях. При этом и сами монархии смотрели на свой епископат и священство свысока, считая, что эта группа погрязла в мелочных внутренних конфликтах, борьбе за лучшие кафедры и т.д.
Антиклерикализм пронизывал не только крайне левые круги, но и умеренную профессуру, высшее чиновничество, аристократию, творческую интеллигенцию, и даже собственно монархические круги. Именно поэтому так много священников в первой четверти ХХ века перебили в Испании, Мексике и России.
К чему приписать эту эпоху хищного антиклерикализма? Кто-то отнесет ее к завершению Ренессанса. Во всяком случае, вероятно, так трактовал эту «эпоху гонений» А.Лосев. Другие, вероятно, склонны считать атеистическую социальную инженерию нацистов и большевиков — началом новой эпохи, которую теперь называют «постхристианской». Именно поэтому мы ее засчитываем как «половину».
Секуляризация как процесс и как исследовательская редукция
Секуляризация — это обозначение процесса автономизации отдельных областей культуры от единого религиозного основания. Однако сам этот концепт возможен только при взгляде изнутри «организованной религии», и даже более точно — изнутри иерархического христианства. Иначе говоря, он относится не к «религиозному» в целом, а только к процессу затронувшему католичество и православие между XVII и первой половиной XX веков. Ведь «религиозное» в целом касается и всех неохристианских движений и нехристианских форм веры. Как верно заметил Джонсон, «в 80-х годах XIX века секулярное движение на Западе, т.е. воинствующий атеизм, находилось в своем апогее почти одновременно со своим самым крупным соперником — протестантским нонконформизмом» (Джонсон, 313).
Можно согласиться с Дэвидом Мартином, который в своей работе «Религиозное и секулярное» еще в 1969 году писал, что «секуляризацию надо убрать из социологического словаря… Вся концепция представляет собой инструмент антирелигиозной идеологии, в которой ради полемических целей определяют «реальный» элемент в религии, после чего связывают его произвольно с идеей необратимого процесса…».
Строго говоря, в Европе начиная с Ренессанса, а в России со времен Петра Великого углублялся кризис «религий апостольского преемства» — это несомненный факт. Несомненно, и то, что параллельно процессу углубляющейся картезианской «рационализации» происходили процессы сакрализации социального, сакрализации природы и человеческого творчества (искусства) и — сакрализации самой «рациональности».
Можно ли уверенно говорить о «расколдовывании мира», когда именно в ХХ веке реализовались глобальные проекты, основанные на сакрализации, т.е. «заколдовывании» социального, на сакрализации рационального… И собственно говоря в ХХI век человечество вступает в состоянии глобальной «околдованности», когда инструментарий имиджей и информации, как в один голос говорят ведущие теоретики глобализма, «вышел из-под контроля»?
Безрелигиозный гуманизм против тоталитаризма
Третья секуляризация, начавшаяся в эпоху Возрождения, завершилась в эпоху масштабной социальной инженерии между двух мировых войн. Эта социальная инженерия внезапно воспалилась настолько, что стала мимикрировать под религию, усваивая ее институциональные формы, ее традиции. Надо признать, что «старое христианство» Европы вовсе не оказалось лидером сопротивления инженерии. В значительной части католики и лютеране Германии оказались захвачены проектом нацизма. В России Церковь даже в условиях беспрецедентного и прямо объявленного плана уничтожения религии — усвоила позицию лояльности государству. Ватикан, как известно, перед лицом событий европейской истории между двумя войнами не смог найти ответа на вызовы. В конечном счете, вряд ли можно оспорить то, что противостояние «силам зла» было осуществлено на основе секулярной гуманистической этики, этики индивидуализма, самореализации личности и демократии. Заметим, что позже «холодная война» велась между двумя секулярными лагерями: демократия и концепция «открытого общества» противостояла коммунизму и идеократии. Определенный вклад Ватикана в победу Запада над Востоком, разумеется, был, благодаря политическому курсу Иоанна Павла II. Равно как и в риторике Рейгана отчетливо звучали библейские мотивы. И все же война Запада с варшавским блоком была войной идеологий, а не религий. Иначе говоря, это был пострелигиозный ответ Запада на квази-религиозную идеологию коммунизма.
Постпозитивизм
Что же происходит сегодня и когда это «сегодня» началось? Это «сегодня» обозначается через такие термины как постсовременность, глобализация, но для нашей темы, в первую очередь, существенно то, что это эпоха, когда пройден пик атеистического пафоса, и он уже остался настолько далеко за спиной.
Секулярный мир и мир религии образовали новую конфигурацию. В этом смысле выражение “постхристианская эпоха” — уже не точное. “Постхристианская эпоха”, по видимому, завершилась вместе с идеократиями, вместе с гуманизмом в его классических атеистических формах.
Точнее было назвать нынешнюю ситуацию постсекулярной эпохой. Религиозность как приватное признание трансцендентного сегодня приветствуется. Несмотря на «расколдовывание мира» больше половины людей на планете странах идентифицируют себя верующими в рамках все тех же мировых религий. Опросы показывают, что число принципиальных атеистов не превосходит 13-15%.
Но религиозность сегодня иная, чем во II, XIII или XIX веках европейской истории.
Это новое качество заключено в глубоком проникновении секулярного в состав религиозного. В самом деле, когда мы говорим о том, что сознание средневекового человек было религиозным, это не значит, что всякое его действие в повседневности мотивировалось его верой. Но мы , наверняка, имеем ввиду, что мировоззрение человека было достаточно жестко, актуально связано с его статусом, с его положением в жизни. Военная аристократия, крестьянство, монахи и т.д., держались определенных «устоев» прямо вытекающих из их статусов. Таким образом, человек располагал базовой идентичностью, а его личная жизненная философия была прямой рефлексией по поводу этой идентичности. Религиозность была вплетена в эту идентичность жестко и прямо. Смена веры являлась предательством, а в России еще в XIX веке — уголовно наказуемым делом.
Идентичность
Если в раннем и зрелом модерне утверждалась самостоятельность крупных культурных областей, то начиная, видимо, с 60-х гг. ХХ века начинается автономизация, дробление, и — уравнивание — мелких и мельчайших сообществ, стилей.
Ульрих Бек, Зигмунт Бауман и многие другие аналитики тенденций глобализации говорят о том, что эта стилевая эклектика, плюрализм социальной жизни, всплеск многообразия вышли за пределы возможностей старых интегрирующих инструментов. В мире возрастает хаотизация. Мы вступили в эпоху «новой неопределенности» (Хабермас).
Многие сегодня обращают внимание на то, что происходит с идентичностью личности. Сама структура идентичности существенно изменилась не только в сравнении с традиционными обществами, но и в сравнении со зрелым модерном. Очевидно, что вертикальные скрепы идентичности практически утратили какое-либо значение, идентичность растекается по горизонтали.
Таким образом существенно меняется само человеческое? А вместе с этим и происходит окончательное перемещение рефлексии о человеческом целком в сферу социального, «дискурсных практик». Иначе говоря, человеческое полностью сместилось в сферу коммуникаций. Сегодня все «коммуникативно», поскольку то, что лежит дальше коммуникаций, как представляется, не объясняет происходящего с человеком. Универсальные онтологии немецкого идеализма, когда-то поражавшие своей интеллектуальной архитектурой, сегодня кажутся смешными гиперболизированными логическими игрушками. Это не значит, что с увяданием метафизики исчез всякий универсализм и больше нет «метанарративов». Место метафизики после Второй мировой войны заняла теоретическая социология, поскольку само человеческое почти без остатка погрузилось в социальное, в интеракцию. Бесспорно, что в последние десятилетия генерализующая рефлексия о человеке происходила в сфере социологии. Из сферы коммуникации выводится все: этика («корни всех этических отношений, а главное, решение этических проблем, следует искать в дискурсе и коммуникации субъектов»), искусство (актуальное искусство как интеракция) и т.д. Самые влиятельные социологические теории толкуют коммуникацию не как посредника между субъектам, а как саму форму существования этих субъектов.
Это не значит, что человек в его составе без остатка исчерпывается социальным, но это значит, что наличие трансцендентного в человеческом составе — это допуск, который не является обязательным. Для социологии, как универсального нарратива, — «трансцендентное» всего лишь один из смыслов, которым обмениваются (или не обмениваются) участники коммуникации.
Растекаясь по горизонтали, т.е. пребывая одновременно во многих ячейках социальных сетей, идентичность личности тем не менее сохраняется. Возможно, главный момент заключен именно в том, что хотя «границы допустимого» с точки зрения сохранения целостности личности — значительно расширились — мы являемся свидетелями выработки нового каркаса идентичности.
Конечно, когда мы видим на экране китайского юношу с крашеными волосами и прической «ирокез» или — американского яппи, ловко пользующегося палочками во время ланча, — то было бы слишком смело называть это «взаимопроникновением культурных стандартов». По поверхности повседневности происходит эпидемическая миграции мелких стилей, «поведенческих стандартов», взятых в своей внешней стороне, без особого культурного бэкграунда. Более того, происходит абсорбция — и опять-таки в первую очередь посредством телевидения — наиболее визуально ярких и примитивных знаков разнообразных сообществ для превращения их в моду, для включения в пространство глобальной потребительской стратегии. Попросту говоря: то, что мы учимся есть палочками, не приближает нас к пониманию конфуцианства и его «культурных стандартов». Китайские палочки у нас в руках — просто следствие консьюмеристской стратегии сетей фаст-фуда.
Возникает вопрос: возможно идентичность сегодня это просто совокупность имиджей, которые даже не нанизаны на одну нитку. Уместнее эту топографию представлять себе как разброс по паутине? Сетевая структура социального опрокидывается в структуру личности, в ее идентичность. Утром — клерк, вечером — хип-хопер, перешел из христианства в ислам, а затем — обратно. Религиозность становится лишь одной из ячеек в сети личной идентичности. Она — не в центре личности, да и вовсе нет никакого центра.
Если это так, то разумно задать вопрос: а какова сегодня религиозность? Не превращается ли сегодня и религиозная идентичность в одну из «мнимостей»? Иначе говоря, в одну из многочисленных — и часто противоречающих друг другу идентичностей, которые легко уживаются — именно в силу своей виртуальности — в отдельно взятом человеке?
Со времен «ипостасных» раннехристианских споров и до эпохи романтизма личность трактовалась в контексте теологической вертикали. Бог создал человека по образу и подобию. Само ядро человеческого трансцендентно, а остальное — погруженное в коммуникацию. Но социальное — вторично и понималось как проекция трансцендентного.
Мы, видимо, находимся на самом пике эпохи «нового хаоса». В современном гуманизме нет атеистического пафоса позитивизма, он благожелатен к религии. Его основой являются пафос самореализации индивида и социальная этика, которые уже не нуждаются в глубоком религиозном обосновании. Религиозное становится «удобным языком» (Фукуяма), на котором выражаются некоторые аспекты «поведенческих стандартов». К чему же движется эта эпоха «нового хаоса»?
Вероятно, четвертая секуляризация — это высвобождение религиозного от трансцендентного. Это высвобождение происходит в направлении утверждения религиозного — как «образа жизни», как культурного стандарта локального комьюнити. Глубочайшее заблуждение многих современных, в том числе и наших, православных критиков глобализации, заключено в утверждении будто бы глобализация разрушает основы культурных стандартов национальных сообществ. В действительности, глобализация работает как раз в обратном направлении — она укрепляет эти «культурные», «поведенческие» стандарты локальных обществ, она приветствует ритуализацию религиозной жизни. Но она готова их принимать религиозное только как стиль, как «образ жизни».
В этом смысле показательно, что Джон Грей — один из весьма авторитетных ныне английских социальных философов в своей книге «Сумерки Просвещения», где подводятся итоги истории европейского либерализма и консерватизма, — высказывается об этом в форме императива, в форме рекомендации евросообществу. Он увтерждает, что западной цивилизации для того, чтобы пойти в развитии дальше исчерпавщего себя проекта «Просвещение»: «необходимо либо изменить, либо отбросить некоторые представления, которые определяли не только Просвещение и Современность, но и важнейшие традиции всей западной цивилизации… Необходимо отказаться от давно устоявшегося в западной традиции понимания религии, как источника высших истин, а не как выражения определенного образа жизни».
Это высказывание отчасти обращает нас к процессу, который, несомненно, тесно связан с перерождением либерализма. Классический либерализм нападал именно на обрядовую сторону религии. Его возмущал именно ритуал, обряд. Классический либерализм, в том числе и российский — стремился объявить так называемые «религиозные ценности» — всеобщими, а ритуал, который с ними связан — враждебным человеческой свободе. Нынешняя ситуация в глобализирующемся мире разворачивает все это с обратным знаком. Если выехать за пределы России и посмотреть на нее из среды современных европейских интеллектуалов — то наша страна представляется им замечательно интересной именно как «православная», — но разумеется, не в смысле «предельных истин православия», а именно с обрядовой, ритуальной стороны нашего «локального комьюнити».
Если мысленно вернуться на 50 лет назад, во времена когда Романо Гвардини писал «Конец нового времени», то мы сразу увидим различие между тогдашним и сегодняшним пониманием содержанием «четвертой секуляризации». Гвардини подводил итог от возрождения до начала постсовременности и отмечал, что «возникает, с одной стороны, область автономного мирского бытия, свободного от прямого влияния христианства; с другой стороны — христианство, своеобразно копирующее эту «автономию». По примеру чисто научной науки, чисто хозяйственного хозяйства, чисто политической политики образуется и чисто религиозная религиозность».
Постсовременность ушла дальше. Горизонтализм личности в условиях сетевой структуры социального нарастает, укрепляется, обосновывается. Современная ситуация поощряет религиозность — как стиль, как часть личной идентичности, как язык, как поведенческую экзотику, как диалог на уровне «предпоследних ценностей». Но в то же время постсовременность — как этап секуляризации — направлена на окончательное развинчивание иерархизированной вертикали личности.
Источник: Информационный сайт российского Представительства Фонда им.Конрада Аденауэра.
|