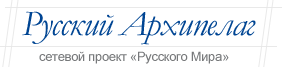|
Эра социальной трансформации
Обзор эпохи, стартовавшей практически с началом нашего столетия [1], и анализ ее позднейших проявлений: экономического порядка, при котором ключевым ресурсом является знание, а не труд, не сырье или капитал; социального порядка, при котором главным вызовом является неравенство, основанное на обладании всё тем же знанием; и образа правления, при котором от правительства не стоит ожидать решения социальных и экономических проблем…
Ни одно столетие в описанной истории не испытывало так много социальных метаморфоз — причем столь радикальных, — как двадцатый век. Смею утверждать, что именно они могут оказаться наиболее значительными событиями этого столетия и его самым долго живущим наследием. В развитых странах свободного рынка (которые включают менее 1/5 населения Земли, но являются моделью для остальных 4/5) труд и рабочая сила, общество и образ правления — всё это, если взять последнюю декаду ХХ века, качественно и количественно отличается не только от того, каким оно было в первые годы рассматриваемого столетия, но и от того, что имело место во все иные периоды истории, ведем ли мы речь о конфигурации, внутренних процессах, проблемах или структуре названных феноменов.
В более ранние периоды гораздо менее масштабные и более медленные социальные преобразования становились причиной гражданских войн, восстаний, яростных интеллектуальных и духовных кризисов. Экстремальные социальные трансформации ХХ столетия едва вызвали некоторое волнение — на самом деле они были произведены с минимумом трений, минимумом сумятицы и минимумом внимания со стороны ученых, политиков, прессы и общественности. Разумеется, это столетие, с его мировыми и гражданскими войнами, массовыми истязаниями, этническими чистками, геноцидами и холокостами, можно отнести к самым жестоким и исполненным насилия во всей истории. Однако, как стало ясно в ретроспективе, все эти убийства и весь этот ужас, который навлекли на человеческую расу смертоносные "харизматики" ХХ века, были лишь тем, чем они и были — бессмысленными убийствами и бессмысленным ужасом, "ничего не означавшими шумом и яростью". Гитлер, Сталин и Мао, три дьявольских гения двадцатого столетия, лишь разрушали. Они ничего не создавали — они создали ничто.
И в самом деле, если это столетие что-то и подтверждает, так это тщетность политики. Даже наиболее догматическому последователю исторического детерминизма нелегко пришлось бы, решись он объяснять социальные преобразования этого века как вызванные политическими событиями, о которых в свое время кричали заголовки всех газет, — в равной мере непросто было бы ему объяснить политические события, о которых в свое время кричали заголовки газет, как вызванные социальными трансформациями. Тем не менее именно социальные преобразования, что подобны океаническим течениям, скрытым глубоко под взволнованной ураганами поверхностью моря, имеют наиболее продолжительное, поистине непреходящее действие. Именно они скорее, чем все насилие, обнаруживаемое на политической поверхности общества, изменили не только его самое, но и экономику, и сообщества, и образ правления, в которых, с которыми и при которых мы теперь живем. Однако Эра социальной трансформации не завершится с окончанием года 2000-го — к тому времени она даже не достигнет своего пика.
Трансформированная социальная структура
Перед Первой мировой войной фермеры составляли наибольшую по численности отдельную группу населения в каждой стране. Однако такой ситуации, когда повсеместно только они и являлись населением — как это было на заре истории и вплоть до конца Наполеоновских войн, всего сотню лет до Первой мировой, — больше не существовало. Тем не менее фермеры по-прежнему формировали почти-большинство в каждой развитой стране за исключением Англии и Бельгии — в Германии, Франции, Японии, Соединенных Штатах и, конечно же, во всех "недоразвитых" странах тоже. Накануне Первой мировой войны самоочевидной аксиомой считался тот факт, что развитые страны — исключая единственно Соединенные Штаты и Канаду — во все возрастающей степени должны будут полагаться на импорт продовольствия из неиндустриальных, неразвитых регионов.
Сегодня среди основных развитых стран свободного рынка только Япония является серьезным импортером продовольствия. (Причем она остается таковым совершенно без всякой на то необходимости: ее несостоятельность как производителя продуктов питания — по большей части результат отжившей свое политики "рисовых субсидий", которая не позволяет стране развивать современное, продуктивное сельское хозяйство.) При этом во всех странах свободного рынка, включая ту же Японию, фермеры сегодня насчитывают от силы 5% населения и рабочей силы, что составляет лишь одну десятую пропорции, имевшей место 80 лет назад. В сущности, фермеры-производители составляют менее половины от всего фермерского населения, или не более двух процентов рабочей силы в целом. И эти сельскохозяйственные производители — собственно говоря, вовсе не "фермеры" в большинстве смыслов слова; они — это "агробизнес", который, есть основания полагать, стал наиболее интенсивной индустрией в плане капитала, технологий и информации. Традиционные фермеры близки к вымиранию даже в Японии, а те, что сохранились, превратились в охраняемый вид, который продолжает существовать только благодаря огромным дотациям.
Вторую по величине группу населения и рабочей силы в каждой развитой стране около 1900 года составляла прислуга, постоянно проживавшая при своих хозяевах (при этом ее существование считалось таким же непреложным законом природы, как и фермеров). Категории переписи населения того времени относили домовладение к "низшему среднему классу", если там было занято менее трех человек прислуги, а в процентном отношении ко всей рабочей силе доля домашней прислуги устойчиво росла вплоть до начала Первой мировой войны. 80 лет спустя домашней прислуги, которая жила бы при своих хозяевах, в развитых странах почти не осталось. Немногие из рожденных после Второй мировой войны — то есть люди в возрасте до 50 лет — вообще видели таковую, а если и видели, то в основном на сцене или в старых кинофильмах.
В развитом обществе образца 2000 года фермеры представляют собой чуть больше, нежели объект ностальгии, а домашняя прислуга не удостоилась чести превратиться даже в такой объект.
Но даже эти огромные преобразования во всех развитых странах свободного рынка были свершены без гражданских войн и, по факту, в практически полном молчании. Только теперь, когда их фермерское население сократилось почти до нуля, полностью урбанизированные французы громогласно заявляют, что их следовало бы считать "сельской страной" с "сельской цивилизацией".
Взлет и падение "синих воротничков"
Одной из причин, почему происшедшие преобразования произвели в обществе столь немного волнений, (на самом деле — главной причиной) было то, что к 1900 году социально доминировать стал новый класс — "синие воротнички" промышленного производства, марксов "пролетарий". Фермеров во весь голос умоляли "производить поменьше зерна и побольше шума", но они не обращали внимания на подобные призывы. Домашняя прислуга со всей очевидностью была самым эксплуатируемым из всех классов, однако, когда перед Первой мировой войной люди говорили или писали о "социальном вопросе", они имели в виду только промышленных рабочих — "синих воротничков". Эти последние фактически составляли скромное меньшинство населения и рабочей силы: вплоть до 1914 года они насчитывали — самое большее — всего лишь восьмую или шестую часть их; традиционные для того времени низшие классы фермеров и домашней прислуги весьма превосходили промышленных рабочих в численном отношении. Однако общество начала ХХ столетия было поистине одержимо и очаровано "синими воротничками", оно буквально зациклилось на них.
Фермеры и домашняя прислуга были везде и всюду, однако как социальные классы они оставались невидимками. Домашняя прислуга жила и трудилась небольшими изолированными группами из двух-трех человек внутри отдельных домовладений или индивидуальных фермерских хозяйств. Фермеры также были весьма рассредоточены в пространственном отношении. Что еще более важно, эти традиционные низшие классы были совершенно не организованы — и на самом деле они не могли быть организованы. Рабы, занятые в горнодобывающей промышленности или в производстве товаров, в античные времена частенько бунтовали — хотя всегда безуспешно. Однако ни в одной книге, которую я когда-либо читал, нет ни одного упоминания хотя бы одной-единственной демонстрации или марша протеста, организованных домашней прислугой — в любом месте, во все времена. Крестьянских бунтов — сколько угодно, однако за исключением двух китайских мятежей XIX века — восстания тайпинов в середине столетия и восстания боксеров в его конце — все крестьянские бунты, известные истории, выдыхались после нескольких кровавых недель. Как показывает исторический опыт, крестьян очень тяжело организовать на какие-либо действия и еще труднее удержать организованными (вот потому-то они и заслужили презрение Маркса).
Новый класс промышленных рабочих был крайне заметен, что, собственно, и сделало этих рабочих "классом". В силу обстоятельств они жили в плотно населенных узлах и городах — таких, как Сен-Дени на окраине Парижа, в берлинском районе Веддинг и венском Оттакринге, в текстильных городках Ланкашира и сталелитейных поселках американских равнин, в японском Кобе. И вскоре они подтвердили свою выдающуюся способность к организации: первые забастовки возникли почти одновременно с появлением первых рабочих. Душераздирающая история смертоубийственного трудового конфликта, описанная Чарльзом Диккенсом в книге "Тяжелые времена" (Hard Times), была опубликована в 1854 году, всего шесть лет спустя после написания Марксом и Энгельсом "Манифеста коммунистической партии" (The Communist Manifesto).
К 1900 году стало вполне очевидно, что промышленные рабочие не могли бы стать большинством, как предсказывал Маркс всего несколькими декадами раньше. Соответственно, они не могли бы подавить капиталистов просто в силу своего численного превосходства. Однако наиболее влиятельный радикальный писатель периода непосредственно перед Первой мировой войной, французский экс-марксист и революционный синдикалист Жорж Сорель (Georges Sorel ) нашел широкой одобрение своему тезису от 1906 года касательно того, что пролетарии способны перевернуть существующий порядок и взять власть именно благодаря своей организации, а также в процессе и посредством насилия всеобщей забастовки. Не только Ленин взял тезис Сореля за основу своей ревизии марксизма и в 1917–18 годах выстроил на нем свою стратегию. Как Муссолини, так и Гитлер — а также Мао, лишь десятью годами позже — строили свои стратегии, исходя из тезиса Сореля. Выражение Мао "власть вырастает из оружейного ствола" является почти дословным цитированием Сореля. Промышленный рабочий стал "социальным вопросом" 1900 года только потому, что он был первым низшим классом в истории, который мог быть организован и который мог оставаться организованным.
Никакой другой класс в истории не поднимался быстрее, чем "синие воротнички" — и никогда ни один другой класс не совершил более скорого падения.
В 1883-м, в год смерти Маркса, пролетарии оставались меньшинством не только по отношению к населению в целом, но также и по отношению к промышленным рабочим. Уже тогда большинство в промышленности составляли квалифицированные рабочие, занятые в небольших ремесленных мастерских, каждая из которых насчитывала от двадцати до тридцати работников. Среди антигероев лучшего "пролетарского" романа XIX столетия — "Принцесса Касамассима" (The Princess Casamassima) Генри Джеймса (Henry James), опубликованного в 1886 году, (и можно с уверенностью сказать, что только Генри Джеймс мог дать такое название истории о террористе — выходце из рабочего класса) один — высококвалифицированный переплетчик, а другой — в равной степени квалифицированный фармацевт. К 1900 году "промышленный рабочий" стал синонимом словосочетанию "оператор машины", что подразумевало трудоустройство на фабрике совместно с сотнями, если не тысячами других людей. Эти фабричные рабочие и в самом деле были марксовыми пролетариями — существами без собственной социальной позиции, без политической власти, без экономической или покупательской способности.
Рабочие образца 1900-го — и даже 1913 года — не получали пенсий, не имели оплачиваемых отпусков, им не платили за работу во внеурочные часы, равно как и за работу по воскресеньям и в ночное время, у них не было страховок на случай болезни или старости (за исключением Германии), они не получали компенсаций по безработице (за исключение Британии после 1911 года) — словом, их труд никак не охранялся. Пятьдесят лет спустя, в 1950-х, промышленные рабочие составляли самую большую отдельную группу в каждой развитой стране, а доходы объединенных профсоюзами работников отраслей массового производства (которые доминировали тогда повсеместно) достигли уровня высшего среднего класса. Они были защищены всеобъемлющими страховками, имели и пенсии, и продолжительные оплачиваемые отпуска, и страхование на случай безработицы — либо "пожизненное трудоустройство" в качестве альтернативы. Но самое главное — они получили политическую власть. В Британии профессиональные союзы рассматривались как "подлинное правительство", обладавшее большей властью, нежели премьер-министр или парламент, — и примерно такая же ситуация сложилась повсюду. В Соединенных Штатах так же, как и в Германии, Франции и Италии, профессиональные союзы проявили себя как наиболее мощная и наилучшим образом организованная политическая сила страны. А в Японии, во время забастовок на предприятиях "Тойоты" и "Ниссана", они вплотную приблизились к тому, чтобы опрокинуть существовавшую систему и самим захватить власть.
Еще тридцать пять лет спустя, в 1990 году, промышленные рабочие и их союзы ушли в отступление. В численном отношении они стали меньшинством. Тогда как в 1950-е годы промышленные рабочие, которые производили или перевозили товары[2], составляли 2/5 американской рабочей силы, к началу 1990-х они насчитывали уже менее 1/5 — то есть не более, чем в 1900 году, когда их стремительное восхождение только начиналось. В других развитых странах свободного рынка это падение поначалу шло медленнее, но после 1980 года оно стало ускоряться уже повсеместно. К 2000 или 2010 году в любой развитой стране свободного рынка промышленные рабочие будут составлять не более восьмой части рабочей силы в целом. Мощь профсоюзов слабеет с той же скоростью.
В отличие от домашней прислуги, промышленные рабочие не исчезнут — во всяком случае, это произошло или произойдет с ними в той же степени, что и с сельскохозяйственными производителями. Но равно как традиционный мелкий фермер из производителя превратился в получателя дотаций, так же и традиционный промышленный рабочий все более становится вспомогательным работником. Его место уже занял "технолог" — некто, способный работать не только руками, но и оперировать теоретическим знанием. (Примерами могут служить компьютерные техники, техники рентгеновских установок и медицинских лабораторий и т. д., то есть все те, кто и составляют наиболее быстро растущую группу рабочей силы США после 1980 года.) И вместо класса — сплоченной, узнаваемой, определенной и осознающей самое себя общности — промышленные рабочие могут вскоре стать лишь очередной "инициативной группой" или "группой нажима".
Летописцы подъема промышленного рабочего склонны заострять внимание на эпизодах насилия, особенно на столкновениях забастовщиков с полицией, как это было в ходе забастовки Пульмана (Pullman) в Америке. Объяснение этому, вероятно, таково, что теоретики и пропагандисты социализма, анархизма и коммунизма — начиная с Маркса и продолжая до Герберта Маркузе (Herbert Marcuse) в 1960-х годах — только и делали, что непрестанно писали и говорили о "революции" и "насилии", хотя, вообще-то, подъем промышленного рабочего был удивительно ненасильственным. Все колоссальное насилие этого столетия — мировые войны, этнические чистки и т. д. — было скорее насилием сверху , нежели насилием снизу ; кроме того, оно никак не было связано с трансформациями общества, идет ли речь о сокращении числа фермеров, исчезновении домашней прислуги или подъеме промышленного рабочего. Фактически, никто больше даже не пытается преподносить эти великие потрясения как часть "кризиса капитализма", о котором стандартная марксистская риторика без устали твердила всего лет тридцать назад.
Вопреки марксистским и синдикалистским предсказаниям, подъем промышленного рабочего не дестабилизировал общество. Вместо того, это явление обернулось самым стабилизирующим социальным обстоятельством всего столетия, что и объясняет, почему исчезновение фермера и домашней прислуги не повлекло никакого социального кризиса. Как бегство с земли, так и бегство с домашней службы было актом добровольным. Фермеров и горничных не выставляли за дверь и не смещали с должностей — они трудоустроились в производственном секторе так скоро, как только смогли. Работа в промышленности не требовала тогда ни навыков, которыми они и не обладали, ни каких-либо дополнительных знаний. На самом деле фермеры в своей массе имели гораздо больше навыков, чем требовалось для того, чтобы стать рядовым оператором машины на заводе, выпускающем ту или иную массовую продукцию, — то же самое можно сказать и о многих из числа бывшей домашней прислуги. Конечно, работа в промышленности вплоть до Первой мировой войны оставалась очень низко оплачиваемой — однако это было лучше, чем занятие фермерством или работа по дому. В Соединенных Штатах промышленные рабочие до 1913 года — а в отдельных странах, включая Японию, и до Второй мировой войны — вынуждены были отрабатывать многочасовой рабочий день. Однако их трудовой день длился все же меньше, чем у фермеров и домашней прислуги. Более того, они отрабатывали лишь определенные часы: остаток дня принадлежал только им, чего нельзя сказать о тех, кто трудился на фермах или прислуживал по дому.
В книгах по истории отражены убожество ранних стадий развития промышленности, нищета промышленных рабочих и их эксплуатация. Рабочие и в самом деле жили в убожестве и нищете, их и в самом деле эксплуатировали. Однако они жили лучше тех, кто трудился на фермах или прислуживал по дому, да и обращались с ними в общем и целом тоже гораздо лучше, чем с фермерами или прислугой.
Подтверждением всему этому служит тот факт, что младенческая смертность сократилась немедленно после того, как фермеры и домашняя прислуга переместились в сектор промышленного производства. Исторически города никогда не воспроизводили самое себя. Своим существованием они были обязаны постоянному притоку все новых и новых "рекрутов" из сельской местности — и так было до середины XIX столетия. Однако с распространением фабричного производства города становятся центрами роста населения. Отчасти это явилось результатом нововведений по охране общественного здоровья: мер по очистке воды, сбору и переработке мусора, карантинных противоэпидемических мер, прививок против болезней. Эти меры, которые по большей части только и были эффективны в городах, противодействовали — или, по крайней мере, сдерживали — опасностям, неизбежным при скоплении больших масс населения, опасностям, которые делали традиционный город опытной площадкой для распространения чумы. Однако важнейшим отдельным фактором экспоненциального сокращения младенческой смертности по мере расширения процесса индустриализации, конечно же, является улучшение условий жизни, вызванное ростом фабричного производства. И жилье, и питание просто-напросто стали лучше, в то время как тяжелый труд и производственные травмы сказывались на качестве жизни все меньше. Сокращение младенческой смертности — и вместе с ней взрывной рост численности населения — обнаруживает однозначную корреляцию только с одним обстоятельством: индустриализацией. Фабрика на заре индустриализации действительно представляла собой "сатанинскую мельницу" из великой поэмы Вильяма Блейка (William Blake). Однако и сельская местность не являлась "зеленой и прелестной землей Англии", которую воспевал тот же Блейк, — она была вполне живописной, но еще более сатанинской трущобой.
Промышленный труд открывал фермерам и домашней прислуге некую возможность. Фактически, это была первая возможность, которую социальная история предоставила им для существенного улучшения себя и своей жизни, без необходимости эмигрировать. В последние 100 или 150 лет в развитых странах свободного рынка каждое новое поколение получило возможность ожидать существенных улучшений своей жизни по сравнению с предшествующими поколениями, и главной причиной такой ситуации явилось то, что фермеры и домашняя прислуга могли стать и стали промышленными рабочими.
Поскольку промышленные рабочие сконцентрированы в группах, оказалась возможной систематическая работа над производительностью их труда. Начиная с 1881 года, за два года до смерти Маркса, систематическое изучение характера работы, ее задач и инструментов увеличили производительность ручного труда в общей сложности от 3 до 4 процентов в год в среднем, что суммарно, за 110 лет, привело к 50-кратному росту выпуска продукции на каждого рабочего. На этом держатся все экономические и социальные доходы прошлого столетия, и вопреки тому, что "каждый знал" в XIX веке — не только Маркс, но и все консерваторы вместе взятые (такие, как Дж. П. Морган, Бисмарк и Дизраэли), — практически все эти доходы достались промышленному рабочему: половина их в форме резкого сокращения продолжительности рабочего дня (составлявшего от 40% в Японии до 50% в Германии), другая половина — в форме 25-кратного роста реальных зарплат промышленных рабочих, которые производят или перевозят товары.
Таким образом, существовало немало весьма и весьма состоятельных причин для вполне мирного, а отнюдь не насильственного или — упаси Боже — революционного, подъема промышленного рабочего. Однако что может объяснить тот факт, что падение промышленного рабочего оказалось в той же степени мирным и почти полностью свободным от социального протеста, от переворотов, от серьезных нарушений общественного порядка, по крайней мере в Соединенных Штатах?
Восхождение "работника знаний"
Подъем класса, приходящего на смену промышленным рабочим, — отнюдь не возможность для этих последних. Это вызов им. Появляющаяся новая доминирующая группа — не кто иные, как "работники знаний". Само это словосочетание было неизвестно сорок лет назад. (Я предложил его в 1959 году в книге "Приметы завтрашнего дня" (Landmarks of Tomorrow).) К концу текущего столетия число "работников знаний" достигнет 1/3 — или даже более — части всей рабочей силы в Соединенных Штатах — пропорции, которой производственным рабочим так никогда и не удалось достичь, за исключением военного времени. Труд большинства из них будет оплачиваться, по крайней мере, столь же высоко (но скорее даже выше), как труд производственных рабочих в их лучшие времена. И все это — не говоря о том, что новые рабочие места открывают гораздо больше возможностей для профессионального, карьерного и личностного роста.
Но — и это очень большое "НО" — огромное большинство новых профессий требуют квалификаций, которыми промышленный рабочий никогда не обладал и к овладению которыми он весьма плохо приспособлен. Они требуют изрядного формального образования и способности к овладению и применению теоретических и аналитических знаний. Они требуют иного подхода к работе и иного склада ума. Более того, они требуют наличия навыка постоянного обучения. Таким образом, уволенные промышленные рабочие не могут просто переместиться на работу, требующую специальных знаний, или в сферу услуг — то есть поступить так, как в свое время сделали, переместившись в производственный сектор, фермеры и домашняя прислуга, потерявшие привычную работу. По крайней — очень крайней — мере, для этого им придется сменить свои основные установки, ценности и убеждения.
В завершающие декады нашего столетия численность промышленной рабочей силы сокращалась быстрее и до наименьшего предела именно в Соединенных Штатах, чем в любой другой развитой стране — в то время как промышленное производство росло там быстрее, чем в любой другой развитой стране, за исключением Японии.
Этот разрыв обострил самую давнюю и непростую проблему Америки: положение черных. В течение пятидесяти лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, экономическое положение афро-американцев в США улучшалось быстрее, чем любой другой группы населения во всей американской социальной истории — или в социальной истории любой другой страны. Доходы 3/5 черного населения Америки достигли уровня среднего класса; перед Второй мировой войной число таковых составляло лишь 1/20. Однако половина этой группы достигла уровня доходов среднего класса, не занимая при этом те рабочие места, что традиционно занимает средний класс. После Второй мировой войны все больше и больше черных перемещаются в сектор массового производства, становясь "синими воротничками", объединенными профессиональными союзами, — то есть занимая такие рабочие места, где зарплаты достигают уровня среднего класса и даже высшего среднего класса, но где не требуется ни образования, ни особого мастерства. В то же время это именно те рабочие места, которые теперь с наибольшей скоростью исчезают с рынка. Что самое изумительное в этой ситуации, так это не то, сколь много черных не получили образования, но сколь много их имеют его. В послевоенной Америке для любого чернокожего молодого человека наиболее рациональным в экономическом смысле поведением было стремление не задерживаться в школе, но оставлять учебу при первой же возможности и поскорее получать работу в массовом производстве, благо подобных предложений было в изобилии. Как результат, процесс падения промышленного рабочего затронул американских черных непропорционально больнее, чем кого бы то ни было — в количественном отношении, а в качественном даже еще сильнее. Это скомпрометировало самую эффективную ролевую модель в черном сообществе Америки: хорошо оплачиваемый промышленный рабочий, с солидной страховкой, медицинским полисом и гарантированной пенсией на случай отставки — и не обладающий при этом ни каким-то профессиональным мастерством, ни особым образованием.
Конечно, черные в США составляют меньшинство населения и рабочей силы. Подавляющему же большинству — в основном белым, но также латиноамериканцам и азиатам — падение промышленного рабочего принесло до изумления мало беспокойства и ничего такого, что можно было бы назвать переворотом (в образе жизни или мировоззрении). Даже в сообществах, некогда полностью зависимых от предприятий массового производства, после того как эти предприятия вышли из бизнеса или резко сократили число занятых (как это произошло в сталелитейных городках западной Пенсильвании и восточного Огайо, например, или таких автомобильных центрах, как Детройт и Флинт в Мичигане), показатели безработицы для не-чернокожего взрослого населения в течение нескольких коротких лет упали до уровня, едва превышающего средний по США — что означает уровень, едва превышающий американскую норму "полной занятости". Даже в таких сообществах не наблюдалось радикализации американских "синих воротничков".
Единственное объяснение, которое можно здесь предложить, таково, что для не-чернокожих сообществ "синих воротничков" развитие ситуации не стало неожиданностью, сколь бы нежелательными, болезненными и пугающими последствиями оно не обернулось для отдельных рабочих и их семей. Психологически — хотя возможно, только в плане ценностей и отнюдь не эмоций — промышленные рабочие Америки должны были быть готовы принять как правильное и нужное перемещение на рабочие места, где необходимо наличие формального образования и где платят скорее за знания, чем за ручной труд — и не важно, требует ли он особого мастерства или нет.
Перемещение это было в основном завершено в Соединенных Штатах к 1990 году или около того. Но пока это произошло только в Соединенных Штатах. В других развитых странах свободного рынка — в Западной и Северной Европе и в Японии — аналогичный процесс в 1990-х только начинался. Тем не менее в этих странах он, несомненно, будет теперь скоротечным, возможно даже, он будет протекать здесь быстрее, чем первоначально в США. Падение промышленного рабочего в развитых странах свободного рынка окажет значительное воздействие и на остальной мир. Развивающиеся страны не могут более рассчитывать на то, чтобы и дальше основывать свое развитие на относительных преимуществах своего рынка труда — то есть на дешевой промышленной рабочей силе.
Существует глубокая уверенность, особенно у должностных лиц профсоюзов, что падение "синих воротничков" в развитых странах было в значительной степени, если не полностью, вызвано переводом производства в "оффшоры" — страны с обильными запасами неквалифицированного труда и низкими ставками зарплат. Однако это не так.
Тридцать лет назад существовало кое-что в подтверждение подобной уверенности. Япония, Тайвань, а позже Южная Корея и в самом деле (как детально объясняется в моей книге 1993 года "Посткапиталистическое общество" (Post Capitalist Society)) достигли своих начальных преимуществ на мировом рынке, причем сделали это едва ли не за одну ночь, путем сочетания изобретения Америки — обучения работников для достижения ими максимально возможной производительности труда — с такими затратами на выплату зарплат, которые были характерны еще для доиндустриальной эпохи. Однако эта "технология" совершенно перестала работать с 1970 или 1975 года.
В 1990-х гг. лишь незначительная доля промышленных товаров, импортированных в США, производилась за рубежом по причине низкой стоимости труда. Тогда как общий объем импорта в США в 1990 году достигал около 12% валового дохода на душу населения, импорт из стран с существенно более низкой оплатой труда составлял менее 3% — и только половину этого импорта составляла промышленная продукция. Посему практически ничего из снижения занятости в американском промышленном производстве с 30-35-процентного уровня до 15-18% (по отношению к рабочей силе в целом) может быть отнесено на счет перемещения производства в страны с низким уровнем зарплат. Основную конкуренцию промышленному производству Америки — например, в автомобилестроении, производстве стали, среднем машиностроении — составили такие страны, как Япония и Германия, где оплата труда долгое время была равной уровню Соединенных Штатов, если порой не превосходила его. Единственное относительное преимущество, которое сейчас идет в счет, заключается в приложении знания — как, например, в японском совершенном по качеству управлении, своевременных доставках и стоимости, исходящей из уровня цен, или в услугах, предлагаемых средними по размеру немецкими или швейцарскими инженерными компаниями. Это тем не менее означает, что развивающиеся страны не могут более рассчитывать на развитие за счет низкой оплаты труда. Они также должны учиться основывать его на применении знания — и это тогда, когда большинство из них (Китай, Индия и значительная часть Латинской Америки, не говоря уж о черной Африке) должны будут подыскивать рабочие места для миллионов необразованных и неквалифицированных молодых людей, пригодных разве что для "сине-воротничковых" промышленных профессий вчерашнего дня.
Однако перемещение в сторону труда, основанного на знании, представляет в не меньшей степени огромный социальный вызов и для развитых стран. Несмотря ни на что, индустриальное общество оставалось в сущности традиционным обществом в его базисных социальных отношениях производства. Однако возникающее общество — то, которое держится на знании и на "работниках знания", — уже иное. Это первое общество, в котором ординарные люди — и это означает: большинство людей — не зарабатывают в поте лица на свой каждодневный хлеб. Это первое общество, в котором "честный труд" не означает мозолистых рук. И это первое общество, в котором не все выполняют одинаковую работу, как это было тогда, когда большинство населения в любой стране составляли фермеры, или, как казалось всего 40 или 30 лет назад, должно было случиться с операторами машин.
Все это гораздо больше, нежели социальное изменение — это изменение в человеческом состоянии. Что это означает — каковы ценности, обязательства, проблемы нового общества — мы не знаем. Но мы знаем, что многое будет другим.
Возникновение "общества знаний"
"Работники знания" не станут большинством в "обществе знания", но во многих, если не во всех развитых обществах они составят наибольшую отдельную группу населения и рабочей силы. И даже там, где их будут превосходить по численности другие отдельные группы, "работники знания" создадут возникающему "обществу знаний" его особый характер, его лидерство, его социальную позицию. Они могут не быть правящим классом "общества знаний", но они уже стали его лидирующим классом. И по своим характеристикам, социальной позиции, ценностям и ожиданиям они фундаментально отличаются от любой группы, которая когда-либо в истории занимала лидирующее положение в обществе.
Прежде всего, "работники знания" получают доступ к рабочим местам и социальному положению через посредство формального образования. Изрядная доля работы, основанной на знании, требует высоко развитых навыков ручного труда и предполагает значительный объем ручной работы. Крайним примером является нейрохирургия. Способность нейрохирурга к выполнению своей работы основывается на формальном образовании и теоретическом знании. Отсутствие профессиональных ручных навыков дисквалифицирует нейрохирурга как такового. Однако сами по себе профессиональные ручные навыки — не важно, сколь совершенные — никогда и никому не позволят стать нейрохирургом. Образование, которое требуется для работы в нейрохирургии и других отраслях, основанных на знании, может быть приобретено только посредством формального обучения — оно не может быть обретено через простое ученичество.
Работа, основанная на знании, чрезвычайно различается по объему и типу требуемого формального знания. Какая-то работа характеризуется довольно низкими требованиями, а другая требует знаний такого типа, какими обладает нейрохирург. Но даже если требуемое знание само по себе достаточно примитивно, только формальное образование может обеспечить его.
Образование станет центром "общества знания", а школа — его ключевым институтом. Каким знанием должен обладать каждый? Что означает "качество" в учебе и обучении? Поиск ответов на эти вопросы с неизбежностью окажется в центре внимания "общества знания" и станет центральной темой политики. По факту, проблема приобретения и распределения формального знания может занять такое же место в политике "общества знания", какое в течение более двух или трех столетий, которые мы привыкли называть "эрой капитализма", занимала в нашей политике проблема приобретения и распределения собственности и доходов.
Очевидно, что в "обществе знания" все больше и больше знаний, и особенно знаний передовых, будет приобретаться значительное время спустя после завершения формального обучения и во все возрастающей степени это будет происходить через посредство образовательных процессов, которые отнюдь не сосредоточиваются на традиционной школе. Однако в то же время показатели школ и их основные ценности станут привлекать все возрастающее внимание общества в целом, которое не будет рассматривать школу как профессиональную проблему, которая благополучно может быть дана на откуп "воспитателям".
Также можно с уверенностью предсказывать, что мы придем к переопределению того, что означает быть образованным человеком. Традиционно — и особенно в течение последних 300 лет (пожалуй, с 1700 года или около того, по крайней мере на Западе, но примерно с того же времени и в Японии) — образованным человеком считался тот, кто обладал неким предписанным запасом формального знания. Немцы называли такое знание allgemeine Bildung , или кругозором[3], а англичане (и, следуя им, американцы XIX столетия) — the liberal arts, или либеральными гуманитарными науками. Образованным человеком во все большей степени будет считаться тот, кто научился учиться и продолжает учиться, в особенности путем формального образования, в продолжение всей его или ее жизни.
В этом процессе присутствуют и очевидные опасности. Например, общество может с легкостью опуститься до того, чтобы сделать упор на формальных дипломах, а не на реальной способности к выполнению той или иной работы. Оно может пасть жертвой конфуцианских чиновников-мандаринов — опасность, к которой американские университеты особенно восприимчивы. С другой стороны, оно может и переоценить готовое к немедленному использованию, "практическое" знание и недооценить важность фундаментальных знаний вместе с мудростью.
Общество, в котором доминируют "работники знания", находится в опасности нового классового конфликта: между значительным меньшинством "работников знания" и большинством населения, которое будет продолжать зарабатывать на жизнь традиционным образом — будь то ручной труд, квалифицированный либо нет, или работа в сфере услуг, также квалифицированная либо нет. Производительность труда, основанного на знании, — остающаяся ужасающе низкой — станет экономическим вызовом "общества знания". От нее будет зависеть конкурентоспособность каждой отдельной страны, каждой отдельной отрасли промышленности, каждого отдельного общественного института. Производительность работника, занятого в сфере услуг или в областях, не связанных с знанием, станет социальным вызовом "общества знания". От нее будет зависеть способность "общества знания" обеспечивать населению приличные доходы, а вместе с ними — достоинство и статус работников отраслей, не связанных с знанием.
Ни одно общество в истории не сталкивалось с такими вызовами, но в равной степени новинкой являются и возможности "общества знания". Впервые в истории в "обществе знания" возможности лидерства будут открыты для всех. Кроме того, возможности приобретения знаний более не будут зависеть от получения некоего предписанного образования только в каком-то определенном возрасте. Учение станет индивидуальным, личностным инструментом — доступным каждому в любом возрасте, — хотя бы потому, что множество знаний и умений можно будет приобрести посредством новых обучающих технологий.
Еще одно подразумеваемое обстоятельство заключается в следующем: то, сколь успешно отдельная личность, организация или страна преуспевают в овладении знанием и применении его, станет ключевым фактором, определяющим их конкурентоспособность. "Общество знания" неизбежно станет гораздо более конкурентным, чем любое другое общество, которое мы до сих пор знали, — по той простой причине, что со ставшим всем доступным знанием уже не найдется извинений для низкой отдачи труда. Более не будет "бедных" стран — будут только невежественные страны. И то же самое будет справедливо в отношении отдельных компаний, отраслей и организаций всех сортов. Это будет справедливо и для отдельных людей. По факту, развитые общества уже стали бесконечно более конкурентными для своих граждан, чем были общества начала этого столетия, не говоря уж о еще более ранних.
Я говорил в основном о знании, хотя более аккуратным определением будет "знания" во множественном числе, потому что знание "общества знания" будет фундаментальным образом отличаться от того, что считалось знанием в более ранних обществах, — и фактически от того, что и сейчас считает знанием широкая публика. Немецкая версия знания allgemeine Bildung или англо-американская liberal arts имеют очень мало общего с делом жизни отдельного человека. Они делали акцент не столько на каком бы то ни было применении знания, сколько на человеке и на его развитии — если даже, как это было с либеральными гуманитарными науками XIX столетия, не вменяли себе в особую заслугу полное отсутствие какой бы то ни было практичности. В "обществе знания" знание по большей части существует только в своих приложениях. Ничего из того, что знает техник рентгеновской установки, не может быть применено в исследовании рынка или, например, в преподавании истории средних веков. Потому костяк рабочей силы в "обществе знания" будут составлять крайне узко специализированные работники. По факту, это вообще ошибка — говорить об "универсалах-многостаночниках". Кого мы во все большей степени будем подразумевать под таким определением, так это люди, которые научились быстро приобретать дополнительные специализации с целью перемещения с одного рабочего места на другое (например, из области исследований рынка в сферу управления или из среднего медицинского персонала в больничную администрацию). Однако "универсалы" в том смысле, в котором мы привыкли говорить о них, имеют шансы рассматриваться скорее как дилетанты, нежели как образованные люди.
И это также определенная новинка. Исторически рабочие были универсалами. Они делали то, что должно было быть сделано — на ферме ли, по дому, в мастерской ремесленника. Такое положение дел оставалось справедливо и для промышленных рабочих. Однако "работники знания" — и не важно, примитивно ли их знание или является передовым, обладают ли они изрядным запасом его или совсем малым — по определению будут узко специализированными работниками. Приложение знания эффективно лишь тогда, когда это знание специализировано — и даже чем более узко специализированным является знание, тем более оно эффективно. Это правило работает для техников, которые обслуживают компьютеры, рентгеновские установки или двигатели боевых самолетов, — и в равной степени оно применимо к той работе, которая требует самого передового знания, будь то исследование в области генетики или астрофизики либо постановка первого представления новой оперы.
Итак, еще раз: поворот от знания к знаниям открывает личности огромные возможности. Он делает возможной как таковую карьеру "работника знания". Однако он содержит и множество новых проблем и вызовов. Впервые в истории он требует от людей, обладающих знанием, принять ответственность за то, чтобы сделать себя понимаемыми другими людьми, не обладающими такой же базой знаний.
Как работают знания
Та установка, что знание в "обществе знания" должно быть узко специализированным, для того чтобы быть продуктивным, подразумевает два новых требования: (1) "работники знания" трудятся в командах, и (2) если "работники знания" не являются служащими той или иной организации, они должны по крайней мере к ней присоединиться, быть приняты в ее члены.
Сегодня немало рассуждают о "командах" и "командной работе". Большинство из этих рассуждений исходит из ложного допущения, а именно — что мы никогда прежде не работали в командах. В сущности, люди всегда работали в командах; лишь очень немногие люди вообще в состоянии эффективно работать автономно. Фермер должен был иметь жену, а у всякой фермерши должен был быть муж — и эта пара работала как команда. И еще эта пара трудилась в команде со своими наемными работниками — лишних рук на ферме не бывает. Ремесленник тоже должен был иметь жену, в команде с которой он трудился: он брал на себя непосредственный ремесленный труд, а в ее ведении находились клиенты, подмастерья и ведение бизнеса в целом. И оба они трудились в команде с помощниками и подмастерьями. Столь много дискуссий сегодня предполагают, что существует только один вид команды, хотя в сущности их не так уж мало. Однако до теперешнего дня акцент делался на отдельном рабочем, а не на команде. По мере того как работа, основанная на знании, будет становиться столь же эффективной, сколь она является узко специализированной, команды будут превращаться в основные рабочие единицы, отодвигая на задний план отдельных рабочих.
Команда, которую навязывают нам сейчас — я называю ее командой "джаз-комби", — представляет собой лишь один вид команды. В сущности, этот вид команды наиболее сложно как собрать, так и заставить эффективно работать; кроме того, этот вид команды требует самого долгого времени для того, чтобы достичь должной отдачи. Нам придется учиться использовать разные виды команд для разных целей. Нам придется учиться понимать особенности команды — этому аспекту[пониманию]до сих пор уделялось самое малое внимание. Понимание команд, производственная отдача разных видов команд, их сила и ограничения, а также взаимодействие разных видов команд станут таким образом главными проблемами в управлении людьми.
В равной степени важным является второй скрытый смысл того факта, что "работники знания" — специалисты по необходимости: им самим необходимо работать в качестве членов какой-либо организации. Только организация в состоянии обеспечить преемственность, необходимую "работникам знания" для того, чтобы быть эффективными. Только организация может превратить специализированное знание "работников знания" в производственную отдачу.
Само по себе специализированное знание не приносит отдачи. Хирург не будет эффективен, если не поставлен диагноз — что в общем и целом не является задачей хирурга и даже находится вне его компетенции. В одиночку историк может быть весьма эффективен в своем исследовании и написании ученых трудов, но чтобы учить студентов, нужен вклад большого числа других специалистов — людей, чьей специальностью может быть литература, математика, другие области истории. Все это требует, чтобы специалист имел доступ к организации.
Таким доступом может стать работа в качестве консультанта или своего рода поставщика специализированных услуг. Однако для большинства "работников знания" это будет работа в качестве служащих (занятых на полных или неполных ставках) организаций — таких, как правительственные агентства, больницы, университеты, частный бизнес или профсоюзы. В "обществе знания" отдачу дает не отдельный человек. Человек — это скорее затратный центр, чем центр отдачи. Подлинную отдачу дает только организация.
Кто такой служащий?
Большинство "работников знания" будут проводить значительную часть своей трудовой жизни, если не всю ее, как "служащие". Однако значение этого слова будет отличаться от того, каким оно было традиционно — и не только в английском языке, но также в немецком, испанском и японском.
Каждый в отдельности, "работники знания" зависят от своих рабочих мест. Они получают оклад или зарплату. Их приняли на работу, их могут оттуда уволить. В юридическом смысле каждый из них — служащий. Однако всем коллективом они — капиталисты: во все возрастающей степени, посредством своих пенсионных фондов и других сбережений, служащие становятся собственниками средств производства. В традиционной экономике — и никоим образом не только в марксистской экономике — существует резкое различение между "фондом заработной платы", который полностью идет на потребление, и "фондом капитала", или той частью общего потока доходов, который остается в распоряжении для инвестиций. По большей части социальная история индустриального общества основывается, так или иначе, на взаимоотношениях между этими двумя "фондами", будь то конфликт или необходимое и выгодное сотрудничество и баланс. В "обществе знания" эти два "фонда" сливаются. Пенсионный фонд — это "отсроченные зарплаты" и, как таковой, это фонд заработной платы. Однако он также все больше становится главным источником капитала для "общества знания".
Возможно, еще более важно то, что в "обществе знания" служащие — то есть "работники знания" — владеют орудиями производства. Великая проницательность Маркса нашла свое выражение в той его мысли, что фабричный рабочий не владел и не мог владеть орудиями производства и потому он был "отчужден". Маркс обращал особое внимание на то, что рабочий никак не мог иметь в собственности, скажем, паровую турбину, как не мог он забрать ее с собой, переходя с одного рабочего места на другое. Капиталист должен был владеть паровой турбиной и контролем над ней. Во все большей степени подлинными инвестициями в "обществе знания" являются не инвестиции в машины и инструменты, но инвестиции в знание "работника знания", поскольку без такого знания машины — и не важно, сколь передовые и совершенные — остаются непродуктивными.
Исследователю рынка нужен компьютер, однако все чаще этот компьютер — собственность самого исследователя (и он может следовать за своим владельцем куда угодно). Настоящее "капитальное оборудование" в исследовании рынка — это знание рынков, соответствующей статистики и приложений исследования рынка к деловой стратегии, которое[знание]помещается "между ушами" исследователя (то есть в его голове) и является его или ее исключительной и неотчуждаемой собственностью. Хирург нуждается в операционных помещениях госпиталя и во всем его дорогостоящем капитальном оборудовании. Однако настоящей капитальной инвестицией этого хирурга являются 12 или 15 лет обучения и знания, которые он приобрел в результате, — все то, что хирург несет с собой из одного госпиталя в другой. И без его знания дорогостоящие операционные любого госпиталя — не более чем пустые траты и металлолом.
И это одинаково справедливо и в том случае, когда "работник знания" владеет каким-либо передовым знанием, как тот же хирург, и тогда, когда речь идет о простом и достаточно элементарном знании, как у младшего бухгалтера. В любом случае это инвестиции в знание, которые определяют, будет ли служащий продуктивен или нет, — и определяют больше, нежели инструменты, машины и капитал, предоставленные организацией. Промышленный рабочий нуждался в капиталисте бесконечно больше, чем капиталист нуждался в промышленном рабочем — основание для утверждения Маркса о том, что всегда будет существовать избыток промышленных рабочих, "промышленная резервная армия", которая позаботится о том, чтобы зарплаты по возможности не поднимались выше прожиточного минимума (вероятно, наиболее вопиющая ошибка Маркса). В "обществе знания" наиболее вероятное предположение для организаций — и несомненно, предположение, исходя из которого они должны вести свои дела, — то, что они нуждаются в "работниках знания" гораздо больше, чем "работники знания" нуждаются в них.
Средние Века были отмечены нескончаемыми дебатами об иерархии знаний (с философией, претендовавшей на то, чтобы считаться "королевой"). Мы давно уже оставили эти бесплодные споры. Нет высшего или низшего знания. Когда пациент жалуется на врастающий ноготь, ситуацией владеет хирург, специализирующийся на заболеваниях ног, а не на черепно-мозговых травмах, хотя последний специалист посвятил своему профессиональному образованию гораздо больше времени и распоряжается гораздо большими гонорарами. И если руководящего работника отправляют в зарубежную страну, то знание, в котором он или она более всего будет нуждаться — причем весьма спешно, — это свободное владение иностранным языком, то есть то, чем любой коренной житель этой страны овладел в возрасте примерно трех лет, причем без особых инвестиций. Знание "общества знания" — именно потому, что это знание только тогда, когда оно применено в действии, — обретает место и положение в иерархии в зависимости от ситуации. Иными словами, то, что является знанием в одной ситуации (свободное владение корейским языком для американского руководителя, командированного в Сеул), — лишь информация, причем не особо относящаяся к делу, когда тому же руководителю несколько лет спустя приходится думать о рыночной стратегии своей компании в Корее. Такая ситуация тоже в своем роде нова. Знания всегда рассматривались, так сказать, как неподвижные звезды, каждая из которых занимает свое собственное положение во вселенной знания. В "обществе знания" знания являются инструментами и, как для любых инструментов, их значение и положение в иерархии зависят от задачи, которая должна быть решена.
Управление в "обществе знаний"
Еще один дополнительный вывод: поскольку, в силу обстоятельств, "обществу знания" приходится быть обществом организаций, его центральным и отличительным органом является управление.
Когда наше общество заговорило об управлении, этот термин означал "управление бизнесом" — поскольку большой бизнес стал первым среди новых организаций, оказавшихся у всех на виду. Однако в последние полстолетия мы узнали, что управление является отличительным органом всех организаций. Все они нуждаются в управлении, пользуются ли они при том самим термином или нет. И все менеджеры занимаются одним и тем же делом, независимо от специфики своих организация. Всем им приходится сводить людей, каждый из которых обладает разным знанием, для совместного решения тех или иных задач. Всем им приходится обращать человеческие достоинства в продуктивную отдачу труда и нейтрализовать человеческие слабости. Всем им приходится продумывать, какие именно результаты желательны их организациям, — и затем определять, исходя из этого, конкретные цели. Все они несут ответственность за понимание того, что я называю "теорией бизнеса" — это предположения и допущения, на которых организация основывает свои действия и достижения и из которых организация исходит, решая, чего ей делать не следует. Все они должны продумывать стратегии, то есть средства, посредством которых цели организации превращаются в ее достижения. Всем им приходится определять ценности своей организации, ее систему поощрений и порицаний, наград и наказаний, ее дух и культуру. Во всех организациях менеджеры нуждаются и в знании управления (как особой деятельности и отдельной дисциплины знания), и в знании и понимании специфики своей организации как таковой — ее целей, ценностей, окружения, рынка, сути ее компетенций.
Как практическая деятельность управление очень старо. Наиболее успешным руководителем во всей истории, без сомнения, был некий египтянин, который 4500 или более лет назад впервые — не опираясь на какой бы то ни было прецедент — задумал пирамиду, разработал ее дизайн и построил ее, причем сделал все это в течение поразительно короткого времени. Та первая пирамида существует до сих пор… Однако как отдельная дисциплина знания управление едва достигает возраста 50 лет. Смутное ощущение ее необходимости впервые возникло примерно в годы Первой мировой войны, однако она так и не сложилась как самостоятельная дисциплина до Второй мировой, а затем появилась первоначально только в США. С тех пор управление остается наиболее быстро развивающейся новой функцией, а изучение его — наиболее быстро развивающейся новой дисциплиной. Ни одна другая функция в истории не возникала и не складывалась с такой скоростью, как управление в последние 50 или 60 лет, и, без сомнения, ни одна не достигала поистине всемирного размаха в столь краткий период.
В большинстве бизнес-школ управление по-прежнему преподается как охапка техник, таких, как составление бюджета и взаимоотношения персонала. Разумеется, как и в любой другой деятельности, в управлении есть свои инструменты и свои техники. Но так же, как анализ мочи (сколь бы важен он ни был) не является сущностью медицины, так и отдельные техники и процедуры не являются сущностью управления. Сущность управления заключается в том, чтобы сделать знания продуктивными. Иными словами, управление — это социальная функция. А в своем практическом проявлении управление — это подлинно либеральное искусство.
Социальный сектор
Старые сообщества — семья, деревня, приход и т. п. — едва не растворились в "обществе знания". Их место в значительной степени было занято новой единицей социальной интеграции — организацией. И если старое сообщество было неизбежной участью, то организация — это добровольное участие. Если старое сообщество притязало на личность полностью, то организация — это средство доступа к личности, инструмент. В течение 200 лет бушевала горячая дискуссия, особенно на Западе: являются ли сообщества "органическими" или они — просто продолжения людей, из которых состоят? Никто не стал бы утверждать, что новые организации — "органические". Очевидно, что это артефакт и творение человека, социальная технология.
Но тогда кто выполняет задачи сообщества? Две сотни лет назад какие бы социальные задачи ни выполнялись, во всех обществах они выполнялись местными сообществами. Теперь же очень немногие — если вообще какие-то — из тех же задач по-прежнему выполняются старыми сообществами. Учитывая же, что старые сообщества более не контролируют своих членов или даже не "держат их в руках", они и не смогут выполнять свои прежние задачи. Люди уже не остаются на всю жизнь там, где они были рождены, — и в географическом смысле, и в смысле социального положения и статуса. "Общество знания" по определению является обществом мобильности. А все социальные функции старых сообществ — хорошо ли, плохо ли они выполнялись (а большинство и в самом деле выполнялось крайне неважно) — предполагали, что и личность, и семья остаются без движения. Однако сущность "общества знания" — это мобильность и в том, где некто живет, и в том, чем он занимается, и в том, к каким сообществам он присоединяется. У людей более нет корней. У них более нет соседского окружения, которое контролирует, каков их дом, чем они занимаются, да и какими следует быть их проблемам. "Общество знания" — это общество, в котором большее чем когда бы то ни было число людей могут быть успешными. И все потому, что, по определению, это также общество, в котором большее чем когда бы то ни было число людей могут упустить свое или, по крайней мере, остаться на вторых ролях. И хотя бы потому, что приложение знания к работе сделало развитые общества гораздо более богатыми, чем любое более раннее общество могло даже мечтать, любые неудачи — будь то бедность или алкоголизм, насилие в отношении женщин или преступность несовершеннолетних — рассматриваются как промахи общества.
Кто же тогда позаботится о социальных задачах в "обществе знания"? Мы ведь не можем игнорировать их, а традиционное сообщество не способно даже взяться за них.
Два ответа появились в последнее столетие или около того — ответ большинства и диссидентское мнение. Оба оказались неверными.
Ответ большинства появился более сотни лет назад, в 1880-х годах, когда Германия Бисмарка предприняла первые запинающиеся шаги в направлении государства всеобщего благосостояния. Вот это ответ: проблемы социального сектора может решать правительство, их нужно решать правительству, их должно решать правительство. Вероятно, этот ответ остается наиболее приемлемым для большинства людей, особенно в развитых странах Запада, — даже хотя большинство людей, вероятно, больше не верят в него так уже безоглядно. Но этот ответ был полностью опровергнут. Современное правительство, особенно после Второй мировой войны, повсюду превратилось в громадную бюрократическую машину по социальному обеспечению. И основная часть бюджета каждой развитой страны идет сегодня на обеспечение гарантированных прав — на оплату социальных услуг всех видов. Тем не менее в каждой развитой стране общество становится скорее все более слабым, нежели здоровым, а социальные проблемы только преумножаются. Правительству отводится важная роль в решении социальных задач — роль того, кто созидает политику, определяет стандарты и в значительной мере платит за всё. Однако как агентство, которое ведает социальными услугами, оно проявило себя почти полностью некомпетентным.
Я сформулировал диссидентское мнение в 1942 году в книге "Будущее человека индустриального" (The Future of Industrial Man). Я доказывал тогда, что новая организация — а 50 лет назад это означало предприятие большого бизнеса — должна бы стать сообществом, в котором личность сможет обрести статус и функцию, а сообщество, сложившееся на рабочем месте, становится именно таким, в котором и через посредство которого могут быть организованы социальные задачи. В Японии (хотя вполне независимо и без какой бы то ни было оглядки на меня) крупный работодатель — правительственное агентство или бизнес — и в самом деле во все большей степени предпринимал попытки служить в качестве сообщества для своих служащих. Пожизненная занятость является лишь одним подтверждением этого. Жилое строительство, предпринятое компанией, планы оздоровления, принятые компанией, отпуска, организованные компанией, и так далее — все это подчеркивало японскому служащему, что его работодатель, и особенно крупная корпорация, является сообществом — преемником вчерашней деревни и даже вчерашней семьи. Такая установка, впрочем, тоже не сработала.
Существует потребность, особенно на Западе, перевести служащего в большей степени под правление сообщества, сложившегося на рабочем месте. То, что сейчас называют "уполномочиванием", весьма сходно с вещами, о которых я говорил около 50 лет назад. Но все это еще на создает сообщества — так же, как не создает оно структуры, через посредство которой можно было бы попробовать разобраться с социальными задачами "общества знаний". По факту, все эти задачи — будь то образование или здравоохранение, аномалии и болезни развитого и, в особенности, богатого общества (такие, как алкоголизм и наркомания) либо же проблемы некомпетентности и безответственности (такие, какими страдает низший класс населения американского большого города) — находятся вне института, предоставляющего работу.
Верный ответ на вопрос "кто берет на себя заботу о социальных вызовах "общества знания"?": это не правительство и не организации, которые предоставляют работу. Ответ таков: это отдельный и новый социальный сектор.
Я полагаю, прошло менее 50 лет с тех пор, как в Соединенных Штатах впервые заговорили о двух секторах современного общества — об "общественном секторе" (правительстве) и о "частном секторе" (бизнесе). В последние же двадцать лет в США начали говорить и о третьем секторе — "неприбыльном" — таких организациях, которые во все большей степени берут на себя заботу о социальных вызовах современного общества.
В Соединенных Штатах, с их традицией независимых и конкурирующих церквей, такой сектор существовал всегда. Даже сейчас церкви являются самой крупной отдельной частью социального сектора Соединенных Штатов, получающей почти половину средств, отчисляемых благотворительным организациям, и около трети времени из того, что тратят на благотворительную деятельность отдельные добровольцы. Однако внецерковная часть социального сектора являлась в США сектором роста. В начале 1990-х в стране было зарегистрировано около миллиона неприбыльных и/или благотворительных организаций, выполняющих работу социального сектора. Преобладающее большинство их — порядка 70% — появились на свет в последние 30 лет. И большинство из них обслуживает сообщества, будучи сильнее озабоченными жизнью на этой земле, нежели в царстве небесном. Какие-то из этих организаций, конечно же, имеют религиозную направленность, но по большей части это не церкви. Их можно было бы назвать "около-церковными" организациями, вовлеченными в решение специфических социальных задач — таких, как реабилитация алкоголиков, наркоманов и преступников или начальное школьное образование. Однако даже внутри церковного сегмента социального сектора организации, которые показали свою способность к росту, являются радикально новыми. Таковы "пасторальные" церкви, которые сосредоточиваются на духовных потребностях личностей, особенно образованных "работников знания", а затем перенаправляют духовную энергию своих подопечных на работу с социальными вызовами и социальными проблемами сообществ — в особенности, конечно же, городских сообществ.
Мы по-прежнему говорим об этих организациях как о "неприбыльных", но это юридический термин. Он не означает ничего кроме того, что, в соответствии с американским законодательством, эти организации не платят налоги. Однако основаны ли они как неприбыльные или нет, это в сущности не отражается на их функциях и поведении. Многие американские больницы с 1960 или 1970 года стали "прибыльными" и юридически организованы как бизнес-корпорации. Однако они функционируют точно так же, как и традиционные "неприбыльные" больницы. Что действительно имеет значение, так это не юридические основания, но то, что институты социального сектора имеют частный круг задач. Правительство требует уступчивости; оно создает правила и следит за их соблюдением. Бизнес предполагает, что ему платят; он обеспечивает общество товарами и услугами. Институты социального сектора нацелены на изменение человеческого существа. "Продукт" школы — это студент, который чему-то научился. "Продукт" больницы — исцеленный пациент. "Продукт" церкви — прихожанин, жизнь которого стала меняться. Задача организаций социального сектора — создавать человеческое здоровье и благополучие.
Все больше организации социального сектора служат и другой, в равной степени важной, цели: они создают гражданство. Современное общество и современный образ правления так разрослись и стали столь сложными, что гражданство — то есть ответственное участие — стало в них более невозможным. Все, что мы можем делать как граждане, — это голосовать раз в несколько лет и своевременно платить налоги.
Как доброволец института социального сектора, отдельный человек снова кое на что способен. В Соединенных Штатах, где в силу давней независимости церквей существует продолжительная традиция добровольческой деятельности, в 1990-х годах почти каждый второй взрослый работал, по крайней мере, три часа — а часто и пять — в неделю как доброволец в организации социального сектора. Среди других стран только Британия имеет подобную традицию, хотя она достигла там гораздо меньшего размаха (отчасти потому, что Британское государство всеобщего благосостояния является гораздо более всеобъемлющим, но еще более потому, что там существует государственная церковь — финансируемая государством и управляемая как государственная служба). Вне англо-говорящих стран традиция добровольческой деятельности не очень развита. По факту, современное государство в Европе и Японии с открытой неприязнью относится ко всему, что отдает добровольческим духом, — в особенности Франция и Япония, где добровольческую деятельность считают античным порядком и подозревают в ней принципиально подрывной характер.
Однако даже в этих странах положение дел меняется, потому что "общество знания" нуждается в социальном секторе, а социальный сектор нуждается в добровольце. В то же время "работники знания" также нуждаются в сфере, где они могли бы действовать как граждане и создавать сообщество. Рабочее место не дает им такой возможности. Ничто не было опровергнуто быстрее, чем понятие "человека организации", которое столь широко было принято всего 40 лет назад. Фактически же, чем более некто оказывается удовлетворенным своей работой, основанной на знании, тем более ему становится необходимой отдельная сфера социальной деятельности.
Многие организации социального сектора станут партнерами правительства — как в случае столь многих "приватизаций", когда, например, город платит за уборку улиц, а работу выполняет подрядчик "со стороны". В американском образовании в следующие 20 лет все более и более будут оперировать оплаченными правительством ваучерами, которые позволят родителям определять детей в избранные по их усмотрению школы — либо публичные, поддерживаемые налогами, либо частные, зависящие в основном от доходов, приносимых теми же ваучерами. Эти организации социального сектора — хотя и являющиеся партнерами правительства — также открыто конкурируют с правительством. Система взаимоотношений между ними еще должна быть разработана, несмотря на то что практического прецедента подобных отношений не существует.
Что составляет отдачу организаций социального сектора, и особенно тех из них, которые — будучи неприбыльными и благотворительными — существуют без оглядки на финансовую дисциплину, также должно еще быть определено. Мы знаем, что организации социального сектора нуждаются в управлении, однако вопрос, что означает для них управление, только начинает изучаться. Что касается управления неприбыльными организациями, мы во многих отношениях находимся в этом вопросе почти там же, где были 50 или 60 лет назад с изучением управления предприятиями бизнеса: работа только начинается.
Однако одна вещь уже вполне очевидна. "Общество знания" должно быть обществом, состоящим из трех секторов: общественного сектора правительства, частного сектора бизнеса и социального сектора. И я смею утверждать, что нам становится все более очевидно, что через социальный сектор современное развитое общество снова сможет создать ответственное и достижимое гражданство и снова сможет предоставить отдельным личностям — особенно "работникам знания" — сферу, в которой они смогут проявить себя, преобразуя общество и воссоздавая сообщество.
Школа как центр общества
Знание стало ключевым ресурсом, определяющим как военную, так и экономическую мощь нации. И это знание может быть приобретено только через обучение. Знание не "привязано" к какой-то одной стране — оно портативно: знание может быть создано везде где угодно, быстро и дешево. Наконец, знание по определению изменчиво. Знание как ключевой ресурс фундаментальным образом отличается от традиционных ключевых ресурсов экономики — земли, труда и даже капитала.
То, что знание стало ключевым ресурсом, означает существование мировой экономики, а также то, что мировая экономика — более, чем национальная экономика — находится под контролем. Каждая страна, каждая отрасль и каждый бизнес окажутся во все более конкурентном окружении. Каждая страна, каждая отрасль и каждый бизнес должны будут в своих решениях предусматривать свою конкурентную позицию в мировой экономике и конкурентоспособность своей компетенции в знании.
Общий политический курс и частные политики в каждой стране по-прежнему сосредоточены на внутренних вопросах. Лишь немногие (если вообще найдутся такие) политики, журналисты или государственные служащие обращают внимание на то, что происходит за пределами их собственной страны, при обсуждении нововведений — таких, как налоги, регулирование бизнеса или социальные траты. Так происходит даже в Германии — самой экспортно-ориентированной и зависящей от экспорта крупной стране Европы. Почти никто на Западе в 1990 году не задавался вопросом, чем обернутся для конкурентоспособности Германии необузданные траты ее правительства на Востоке.
Однако дальше это не будет работать. Каждой стране и каждой отрасли придется принять тот факт, что первостепенный вопрос — это не вопрос "Является ли некая мера желательной?", но "Каким будет воздействие[некой меры]на конкурентное положение страны или отрасли в мировой экономике?". Нам необходимо разработать в политике нечто аналогичное "декларации о влиянии на окружающую среду", которая сейчас требуется в США для любого правительственного действия, которое может повлиять на качество окружающей среды: нам нужна "декларация о воздействии на конкурентоспособность". Влияние на чье-то конкурентное положение в мировой экономике не обязательно должно стать определяющим фактором в принятии решений. Однако принимать решение, не рассмотрев этот аспект, стало просто безответственно.
В целом, тот факт, что знание стало ключевым ресурсом, означает, что позиция страны в мировой экономике будет во все большей степени определять ее внутреннее процветание. С 1950 года способность страны улучшать свои позиции в мировой экономике оставалась главным и, пожалуй, единственным фактором, определяющим ее успехи во внутренней экономике. Монетарная и фискальная политики при этом оставались — на радость или, по большей части, на беду — практически безотносительны к происходящему (с единственным исключением, касающимся правительственной политики создания инфляции, которая очень быстро подрывает как конкурентную позицию страны в мировой экономике, так и ее внутреннюю стабильность и способность к росту).
Первенство международных дел — давнее политическое предписание, берущее свое начало в европейской политике XVII века. После Второй мировой войны это правило было воспринято и американской политикой, хотя неохотно и только на случаи крайней необходимости. Оно всегда подразумевало, что военной безопасности отдается преимущество над внутренней политикой, и весьма похоже, что и дальше оно будет означать то же самое, идет ли речь о "холодной войне" или нет. Однако первенство международных дел приобретает теперь новое измерение: то, что конкурентное положение страны в мировой экономике — и это касается отдельной отрасли и организации — должно стать первейшим, на что обращается внимание во внутренней политике и внутренних стратегиях. Это остается справедливым и для страны, которая лишь в малой степени вовлечена в мировую экономику (если еще останутся такие), и для бизнеса, который лишь в малой степени вовлечен в мировую экономику, и для университета, который рассматривает себя как полностью внутреннее учреждение. Знание не знает границ. Нет внутреннего знания и знания международного. Есть только Знание . И по мере того, как знание становится ключевым ресурсом, остается только мировая экономика, даже если отдельная организация в ее повседневной деятельности продолжает оперировать в пределах национального, регионального или даже локального окружения.
Как может функционировать правительство?
Социальные задачи все больше выполняются отдельными организациями, каждая из которых и была создана для выполнения одной и только одной социальной задачи, будь то образование, здравоохранение или уборка улиц. Общество, таким образом, быстро становится плюралистическим, но наши социальные и политические теории все еще предполагают, что не существует других центров власти кроме правительства. Разрушение или, по крайней мере, воздаяние должного бессилию всех других властных центров было толчком западной истории и западной политики на 500 лет, с XIV века и впредь. Эта "кампания" достигла кульминации в XVIII и XIX веках, когда те ранние институты, которым удалось выжить — например, университеты и церкви, — стали государственными органами, а их функционеры — государственными служащими (исключение составили только Соединенные Штаты). Однако затем, начиная с середины XIX века, возникли новые центры, первым из которых стало современное предприятие бизнеса, появившееся около 1870 года. И с тех пор новые организации появляются на свет одна за другой.
Новые институты общества организаций — профессиональные союзы, современная больница, мега-церковь, исследовательский университет — не имеют интересов в общественной власти. Они не хотят быть "правительствами". Однако они требуют — и в самом деле нуждаются в — автономии в том, что касается их непосредственных функций. Даже в разгар сталинизма менеджеры важнейших промышленных предприятий оставались в значительной степени хозяевами на своих предприятиях, а отдельные отрасли были в значительной степени автономны. Так же обстояли дела с университетами, исследовательскими лабораториями, военными.
Во вчерашнем "плюрализме" — в обществах, в которых контроль был разделен между разными институтами, (в феодальной Европе в средние века и в Японии времен Идо, в XVII и XVIII столетиях) — плюралистические организации пытались контролировать все, что бы ни происходило в их сообществах. Во всяком случае, они пытались предотвратить влияние любой другой организации на любой из аспектов жизни или на любой институт в пределах своих владений. Однако в обществе организаций каждый из новых институтов занимается только своими собственными задачами и миссией, не претендуя на власть над чем бы то ни было еще. Однако это также не означает ответственности за всё остальное. Кто же тогда побеспокоится об общей пользе, об общем добре?
Это всегда составляло центральную проблему плюрализма, и ранний плюрализм не разрешил ее: проблема остается, хотя в новом виде. До сих пор она рассматривалась как налагающая ограничения на социальные институты — не позволяя им, следуя своей миссии, функции или интересу, делать чего-то, что покушалось бы на общественное владение или нарушало бы общественную политику. Все антидискриминационные законы — затрагивающие различия по признаку расы, пола, возраста, образовательного уровня, состояния здоровья и так далее, — которые особенно распространились в США в последние 40 лет, запрещают социально нежелательное поведение. Однако мы во все большей степени поднимаем вопрос социальной ответственности социальных институтов: что эти институты должны делать — в дополнение к исполнению своих прямых функций — для содействия общественному добру? А ведь это является требованием — хотя никто, кажется, не осознает его сущности — возврата к старому плюрализму, плюрализму феодализма: это требование, чтобы частные руки приняли общественную власть.
Это может представлять серьезную угрозу новым организациям, как предельно ясно показывает пример школ в США. Одной из важнейших причин устойчивого снижения способности школ выполнять свои прямые функции — то есть обучать детей элементарным навыкам знания, — конечно же, является то, что с 1950-х годов Соединенные Штаты стали все больше превращать школу в проводника социальных политик всех сортов: устранение расового неравенства, дискриминации в отношении всех других видов меньшинств, включая инвалидов, и так далее. Действительно ли нам удалось достичь какого-то прогресса в смягчении социальных недугов, остается в высшей степени спорным: пока что школы не подтвердили своей особой эффективности в качестве инструментов для социальных реформ. Однако превращение школы в орган социальных политик, без всякого сомнения, значительно подорвало ее способность достойно делать свое дело.
У нового плюрализма — новая проблема: как поддерживать способность новых институтов выполнять свои задачи и одновременно поддерживать сплоченность общества. Это делает возникновение сильного и действенного социального сектора вдвойне важным. И это дополнительная причина, почему социальный сектор будет становиться все более решающим для "общества знания" в плане если не его сплоченности, то отдачи.
Среди новых организаций, которые мы рассматриваем здесь, первым 120 лет назад возникло предприятие бизнеса. Потому вполне естественным был тот факт, что проблема появляющегося общества организаций вначале представлялась проблемой отношений правительства и бизнеса. Также вполне естественным было и то, что новые интересы первоначально виделись как экономические интересы.
Первая попытка вплотную заняться политикой возникающего общества организаций была посему нацелена на то, чтобы заставить экономические интересы служить политическому процессу. Первым, кто стал добиваться этой цели, был американец Марк Ханна (Mark Hanna), реставратор Республиканской партии в 1890-х гг. и во многих отношениях отец-основатель американской политики XX века. Его определение политики как динамического неравновесия между главными экономическими интересами — фермеров, бизнеса и труда — составляло основание американской политики вплоть до Второй мировой войны. По факту, Франклин Д. Рузвельт реставрировал Демократическую партию, переформулировав определение Ханна. Основная политическая позиция этой философии очевидна из заголовка наиболее влиятельной политической книги, написанной Гарольдом Д. Лассуэллом (Harold D. Lasswell ) в 1936 году, в годы "Нового курса" (New Deal), — "Политика: кто получает что, когда, как" (Politics: Who Gets >What, When, How).
Марк Ханна в 1896 году очень хорошо знал, что существует достаточно интересов помимо экономических. Для него было так же очевидно, как и для Рузвельта 40 лет спустя, что экономические интересы должны быть использованы для интеграции всех других интересов. Это остается допущением, как правило, лежащим в основе анализа американской политики — и фактически политики всех развитых стран. Однако это допущение более не является таким уж безусловным. В основе формулы Ханна лежит преставление о земле, труде и капитале как о существующих ресурсах, но знание — новый ресурс экономических достижений — само по себе не является экономическим феноменом.
Оно не может быть куплено или продано. Плоды знания — такие, как доход с патента — могут быть куплены или проданы, но знание, которое легло в основу этого патента, не может быть передано ни за какие деньги. Не важно, сколь много готов заплатить нейрохирургу страдающий пациент — тот не может продать и, конечно же, передать ему знание, лежащее в основе его доходов и способности выполнять свои обязанности. Приобретение знание имеет стоимость, как и приобретение чего бы то ни было другого, но приобретение знания не имеет цены.
Посему экономические интересы более не могут интегрировать все иные интересы. Как только знание превратилось в ключевой экономический ресурс, интеграция интересов — и вместе с ней объединение плюрализма современного образа правления — стала утрачиваться. Во все возрастающей степени неэкономические интересы становятся новым плюрализмом — специальными интересами, единичными организациями и так далее. Во все возрастающей степени политика — это не "кто получает что, когда, как", но ценности, каждая из которых рассматривается как абсолютная. Политика — это право на жизнь эмбриона в утробе матери против права женщины контролировать свое собственное тело и, соответственно, ее права на аборт. Это окружающая среда. Это достижение равенства для групп, причисленных к угнетаемым и дискриминируемым. И ни одна из этих проблем не является экономической — все они, в принципе, моральны.
С экономическими интересами возможны компромиссы (в чем и заключается вся сила политики, основывающейся на экономических интересах). "Полбуханки — тоже хлеб" — весьма многозначительное выражение. Однако половина младенца, как в библейской истории о суде царя Соломона, это не половина ребенка. Здесь компромисс невозможен. А для защитников окружающей среды половина вымирающих видов — это уже исчезнувшие виды.
Все это серьезно обостряет кризис современного образа правления. Газеты и комментаторы по-прежнему склоняются к тому, чтобы в экономических терминах рапортовать о том, что происходит в Вашингтоне, Лондоне, Бонне или Токио. Однако все больше и больше лоббистов, определяющих правительственные законы и правительственные действия, перестают быть лоббистами экономических интересов. Они сражаются за или против мер, которые они — а также те, кто им платит, — считают моральными, духовными, культурными. И каждая из этих новых моральных проблем, представленная новой организацией, претендует на то, чтобы быть абсолютной. Разделение их "буханки" — не компромисс: это измена.
Таким образом, в обществе организаций нет ни одной интегрирующей силы, которая стягивает отдельные организации в общество, а сообщество — в коалицию. Традиционные партии — возможно, наиболее удачные политические творения XIX столетия — более не в состоянии объединять расходящиеся точки зрения и группы в совместной гонке за властью. Они скорее превратились в поля сражений между группами, каждая из которых сражается за абсолютную победу и не удовлетворяется ничем иным, кроме полной капитуляции врага.
Потребность в социальных и политических инновациях
Двадцать первое столетие, по крайней мере в его первые декады, без сомнения, увидит продолжение социальных, экономических и политических беспорядков и вызовов. То, что я назвал "эрой социальной трансформации", еще не завершилось. Вызовы, которые маячат впереди, могут оказаться более серьезными и более устрашающими, чем те, что были созданы уже произошедшими социальными преобразованиями — социальными трансформациями ХХ века.
Однако у нас не будет даже единого шанса разрешить эти новые, неясно вырисовывающиеся, проблемы завтрашнего дня, если мы сначала не обратимся к вызовам, предложенным теми обстоятельствами, которые являются уже свершившимися фактами, — обстоятельствах, которые мы обсуждали в первых разделах этого очерка. Это приоритетные задачи. Только если взяться за них, можем мы надеяться достичь в демократических развитых странах свободного рынка социальной сплоченности, экономической мощи и правительственных способностей, необходимых для работы с новыми вызовами. Первоочередным делом для всех — для социологов, специалистов политических наук и экономистов; для занятых в сфере образования; для руководителей бизнеса, политиков и лидеров "неприбыльных групп"; для представителей всех слоев общества, будь они родителями, служащими, просто гражданами — является работа над этими приоритетными задачами, хотя лишь для немногих из них мы до сей поры имели прецеденты, не говоря уж об апробированных решениях.
· Нам придется до конца продумать идею образования — его цели, его ценности, его содержание. Нам придется научиться определять качество образования и его продуктивность, чтобы быть способными измерять и то, и другое и управлять ими.
· Нам нужна систематическая работа над качеством знания и его продуктивностью — остающимися все еще даже не определенными. Способность выполнять свои задачи, если не выживание, любой организации в "обществе знания" будет становиться все более зависимой от этих двух факторов. Но то же самое будет происходить и со способностью выполнять задачи, если не с выживанием, любого человека в "обществе знания". А какую ответственность несет знание? Каковы зоны ответственности "работника знания" и особенно человека, обладающего узко специализированным знанием?
· Во все возрастающей степени политика каждой страны — и в особенности любой развитой страны — должна будет отдавать первенство конкурентному положению своей страны во все более конкурентной мировой экономике. Любая предлагаемая внутренняя политика будет нуждаться в форме, ориентированной на совершенствование этой позиции или, по крайней мере, на уменьшение неблагоприятных воздействий на нее. То же остается справедливым для политик и стратегий любого национального института, будь то местное самоуправление, бизнес, университет или больница.
· Однако затем нам также придется развивать экономическую теорию, соответствующую состоянию мировой экономики, когда знание стало ключевым экономическим ресурсом и доминирующим, если не единственным, источником сравнительного преимущества.
· Мы начинаем понимать новый интегрирующий механизм — организацию. Но нам еще нужно думать и думать, как сбалансировать два явно противоречащих друг другу требования. Организации должны компетентно выполнять те единственные социальные функции, ради которых они и существуют: школа должна учить, больница — лечить, а бизнес — производить товары, услуги или капитал, чтобы предусмотреть будущие риски. Они могут делать это, только если они целеустремленно сконцентрированы на своей социальной миссии. Однако существует также потребность общества в том, чтобы эти организации взяли на себя социальную ответственность — работать над проблемами и вызовами сообщества. Все вместе эти организации и есть сообщество. Появление сильного, независимого, жизнеспособного социального сектора — не общественного и не частного — является, таким образом, главной необходимостью общества организаций. Однако самого по себе этого еще не достаточно: организации как общественного, так и социального секторов должны разделить работу с социальным сектором.
· Вопросы функций правительства и его функционирования должны стать центральными для политической мысли и политического действия. Мега-государство, которому потакало это столетие, не проявило себя ни в тоталитарной, ни в демократической версии. Оно не выполнило ни одного из своих обещаний. Правительство противоборствующих лоббистов тоже не является ни особенно эффективным, ни особенно привлекательным — по факту, это паралич. При этом эффективное правление никогда не было нужно более, чем в нашем остро конкурирующем и быстро меняющемся мире, в котором угрозы, созданные загрязнением физического окружения, сопоставимы только с угрозами всемирного загрязнения вооружением. А у нас нет даже начал политической теории или политических институтов, необходимых для эффективного правления в обществе организаций, основанном на знании.
Если двадцатый век был веком социальных трансформаций, двадцать первому веку нужно стать веком социальных и политических инноваций, чья природа не может быть ясна нам сейчас так, как очевидна их необходимость.
1994 г.
[1] Речь идет о ХХ веке. — Прим. пер.
[2] Т. е. были заняты в производстве и транспорте. — Прим. пер.
[3] Хотя немецкое "Allgemeinbildung", как чаще употребляют это выражение сами немцы, вовсе не означает и никогда не означало некоего "запаса формального знания". Это скорее мера знания и образования. С другой стороны, "Allgemeinbildung" может быть противопоставлено специализированному знанию. Это не образовательный стандарт; главной его характеристикой скорее является функция, чем некое определенное содержание: "Allgemeinbildung" позволяет принимать участие в дискуссиях на важные, но не узкоспециальные темы, делать обоснованные заключения относительно тенденций, развивающихся в обществе, науке и т. д., широко пользоваться публикуемой в разных источниках информацией — словом, сущность его близка к современному "научиться учиться". — Прим. пер.
Перевод Татьяны Лопухиной по заказу "Русского Архипелага", сентябрь 2003 г.
Источник: журнале "The Atlantic Monthly".
|