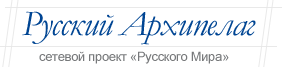|
Брейн-дрейн и как с ним бороться
Брейн-дрейн означает "отток мозгов" или, в более правильном русском эквиваленте, все-таки умов. Данное дребезжащее словосочетание из английского уже закрепилось в изрядно варваризованном политическом словаре постсоветского периода. Изначально это выражение было запущено в оборот лет тридцать назад экспертами ЮНЕСКО, которые были озабочены поисками очередных причин, препятствующих бедным странам "Юга" развиться до благополучия "индустриального Севера". У нас "развал науки и бегство кадров" стало одним из тяжких обвинений в адрес тех неких, кто будто бы обладал дьявольской властью профукать Российскую державу.
Упаси нас Боже от вульгарного социологизма, но как не отметить, что возглавляют опечаленных, негодующих (теперь вот и бастующих) видные организаторы науки, те самые советские академические генералы, чьим специфическим объектом властвования была прежняя институтско-университетская система, или "Советская наука". Хор им создают более заурядные научные работники, кому ничуть не менее есть о чем печалиться, вспоминая былую интеллектуально нетребовательную, чиновничье-упорядоченную и притом довольно сытную научную жизнь.
Наука — социоморфна, иначе говоря, она строится по тем же организационным правилам, что и породившее ее общество. Советская наука могла быть организована только как номенклатурное ведомство. При этом данная отрасль рассматривалась как приоритетная — а, следовательно, дотируемая — в силу исконно большевистской, доходящей до иррационального, страсти к индустриальной технике (особенно военной) и, одновременно, сакрального трепета перед социальным знанием об обществе. Марксистская традиция нонконформистского анализа регулярно прорывалась сквозь официальную догматику. Советскому имперскому государству приходилось опасаться критической теории, заложенной в самое основание его идеологии и риторики. Поэтому сталинская "революция сверху" 1929-1938 гг. первым делом занялась оформлением интеллектуального и художественного сообществ в огосударствленную АН СССР и творческие союзы. Созданная в начале 1930-х годов подсистема могла вполне самостоятельно исполнять статусно-упорядочивающие функции внутренней цензуры и поощрительного распределения благ. Наряду с собственно производством научных трудов и остепененных кадров (качество которых снижалось пропорционально общесоветским понижательным тенденциям), это гигантское совокупное ведомство было призвано упорядочивать и контролировать потенциально опасные массы интеллигенции.
С тех пор, как в 1950-е годы в советском государстве была ограничена роль чекистской подсистемы террора, контроль над умами шел преимущественно по линии развращения ничегонеделаньем (за письменным столом или на овощебазе) при относительно высоких окладах, академических кооперативах, продовольственных заказах, загранпоездках и прочих поощрениях. Покуда продолжало существовать моноорганизационное имперское государство, академическая подсистема вполне справлялась со своей главной идеологической задачей поддержания status quo и подавления альтернатив.
Внутри научной среды строго иерархическая система институтско-кафедральной власти выполняла роль приманки для честолюбцев, цензора для вольнодумцев и гаранта стабильного интеллигентского образа жизни для изрядно болотистой основной массы научников. Научное ведомство занималось в основном самовоспроизводством в рамках номенклатурной организации власти. Боже нас упаси от грехов очернительства и неблагодарности — наша академическая система предоставляла вполне приемлемую социальную нишу многим хорошим людям, а порой даже производила знание и ученых отменного качества (правда, чаще в виде побочного продукта от основной функции воспроизводства власти господствующей в науке элиты). Иерархичность АН СССР, ВАКа и МинВУЗа рядилась в одежды академических стандартов и тем самым, волей-неволей, способствовала поддержанию определенного профессионального уровня, и несколько старомодного образца германо-российской профессорской науки конца XIX века.
Короче, ситуация в советской науке напоминала ситуацию в советском балете, журналистике, спорте, литературе, а также танкостроении, газовой промышленности, даже в самом партаппарате. То же самое наблюдаем мы и сегодня, после системного краха позднесоветского общества. Надеяться, что прежнюю систему власти можно возродить путем простого "восстановления разорванных связей" и "государственного внимания" свойственно равно председателям колхозов и академикам. Ну, "кто выживет, увидит", как говорят французы.
Так реальна ли проблема "оттока мозгов"? В том-то и дело, что да. Количество аспирантов, высококвалифицированных техников и ученых из бывшего СССР, работающих (и не работающих) сегодня за рубежом, оценкам не поддастся. Слишком различны и порой причудливы индивидуальные траектории. Однако, подшивки "Известий", "Литературой" и "Независимых газет" исправно зачитаны до дыр повсеместно по читалкам всех шестисот с лишним американских университетов и Бог весть скольких еще четырехгодичных колледжей, от заносчивого Гарварда до районного техникума какого-нибудь графства Хампти-Дампти.
Едва ли не в каждой университетской или промышленной лаборатории США плечом к плечу с китайцами, индийцами и латиноамериканцами корпят "русскоговорящие" всех национальностей бывшего Союза и даже СЭВа. Здесь, кстати, царит как дружба народов, так и едва ли не ранне-КВНовская непринужденность — прямой результат освобождения ученой братии от начальственного присмотра. Американские же деканы против тертых калачей из нашей страны, как правило, бессильны, да и не особенно стремятся утверждать свою власть. В конкурентной среде выгоднее предоставить подразделениям университета или фирмы внутреннюю самостоятельность в обмен на отдачу — изобретения или публикации, увеличивающие рейтинг данного учреждения.
Личное освобождение плюс то удивительное чувство, которое, по замечательному выражению Е.К. Лигачева, возникает от "делания дела", компенсирует большинству экс-совзаграннаучкомандироваших житейскую стесненность и даже тяготы, производимые их относительным безденежьем, процессами адаптации, и главное — временностью их положения.
Эпизоды из телефильма "Михайло Ломоносов", посвященные пребыванию нашего великого предтечи в Германии, звучат поразительно актуально: "Я — Российский студент!" (то есть чуть что — уйду пешком). Надо откровенно признать, что за годы, прошедшие со времени открытия пограничных шлагбаумов (с 1989–90 гг.), немногие из наших соотечественников разбогатели и добились гарантированного положения в научном мире Запада. Не стоит, впрочем, сомневаться, что вскоре они его добьются. Как и в спорте или балете, нашу многокусочковую Родину пока еще представляет на диво сильный состав. Просто в мировой науке дольше цикл признания. В зависимости от научной дисциплины, он составляет от трех-пяти лет у признаваемых на мировой арене техников и естественников до десяти-двенадцати для молодежи в общественных дисциплинах.
Здесь и кроется главная опасность для государственных интересов наследников СССР (а речь, по большому счету, идет именно о государственных интересах и державном престиже, чтобы там ни говорили о судьбах культуры). Пока что великая сушь, наступившая в пост-советской науке, имела катастрофически-облагораживающее воздействие. Подсохла и порядком растрескалась былая система власти; легионы профнепригодных сотрудников подались Бог весть куда — кто почивать на кушетке, кто в бизнес, кто в народные депутаты. Их коллеги, сумевшие доказать неформальную квалификацию, уже не зависят как раньше от своих мест работы. Они научились добывать гранты у себя дома и побивать иноземную ученость на ее территории.
Между прочим, психологически последнее обстоятельство сравнимо с полетом первого спутника и с первой победой нашей сборной над канадскими профи из НХЛ. С двадцатых годов отечественная наука существовала в провинциальной отгороженности от пресловутого "мирового уровня" — и отгораживание это осуществляли в основном те, кто нынче оплакивает бегство своих научных крепостных.
Финальная катастрофа советской науки (или, если хотите, шоковая терапия) реализовала, таким образом, двойную созидательную задачу — была установлена связь с мировым, то есть западным сообществом, а, следовательно, и конвертируемость отечественного научного знания, и, худо-бедно, было расчищено место для новой организации науки, адекватной посткоммунистическому социуму. Но если это, на сегодняшний день пустующее, место в ближайшие пять-семь лет не будет заполнено новыми научными структурами (какими конкретно — разговор особый), мы рискуем столкнуться с двумя действительно крупными неприятностями.
Во-первых, размывание преподавательских кадров и неизбежная для беднеющего и нестабильного общества потеря ориентированных на науку студентов приведет к провалу в цикле поколений. Разрыв грозит быть менее кровавым, чем массовое уничтожение российской научной молодежи в Гражданской войне, но зато куда более истощающим. Даже если в России наступит экономическое чудо, новый подъем затронет в основном сферу бизнеса и он, конечно, никогда не сравнится с мифологическим энтузиазмом большевизма. Это означает, что при прочих равных, чисто экономический расчет будет отвращать молодежь от науки, одновременно подталкивая наиболее образованных и конкурентоспособных выпускников университетов и аспирантур к миграции на Запад.
Во-вторых, слишком прочные корни пустят на Западе именно те, в чьем возвращении должно быть наиболее заинтересовано любое посткоммунистическое правительство России (и стран СНГ), испытывающее чувство ответственности перед гражданским обществом и возглавляемым им государством.
"Запад — это то же царство теней", — сказал одни печальный русский интеллигент, "многие отправляются туда, но немногие возвращаются обратно". Данное эмпирическое обобщение, как многие философские максимы, отражает на самом деле отнюдь не универсальный опыт. Десятки, если не сотни тысяч интеллектуальных работников из бывшего СССР, оказавшиеся сегодня на Западе, пока еще не составляют научной диаспоры и тем более не интегрированы в западные общества (что бы там ни утверждали отдельные коллеги, уже и говорящие с акцентом). При определенных условиях они окажутся не потерей а выгоднейшим вложением капитала, скорее даже "мозгами", отданными на сохранение, причем под высокий процент. (Мозги вообше-то — престраннейший товар). Здесь, прежде всего, необходимо различать типы мотивации, которыми сегодня определяются действия и планы этих людей.
"Русскоговорящих" ученых, утекающих за кордон, можно условно разделить на четыре категории: "супермены", "академические казаки", "клеши" и "зайчишки".
"Супермены " — это действительно крупнейшие ученые, чей конвертируемый научный престиж совпадает с формальным академическим чином (это Академики с большой буквы). Люди подобной категории, подобно всякой сверх-элите, представляют большую редкость. Американские иммиграционные власти с почтением выдают им виды на жительство по престижной категории Е-1, наряду с олимпийскими чемпионами и выдающимися исполнителями. Летают супермены высоко и быстро, перемещаясь по всей планете. Жить же предпочитают дома — и суперменам необходимо отдыхать душой и телом. Только бы "дом" обеспечивал элементарный комфорт и позволял испытывать отдохновение в промежутках между звездными полетами.
"Клещи " и "зайчишки " — персонажи знакомые, "совковые". Как правило, им около сорока лет, так что это люди, успевшие (и допустившие) быть исковерканными подчиненной ролью в советской научной системе. Объединяет их странное сочетание неуверенности в себе с готовностью выживать.
"Клещи" прибывают на Запад с твердым намерением держаться за хвост удачи. Это преимущественно карьеристы не из подлинно великих, а также довольно неизобретательные потребители. Именно карьерная жилка делает эту категорию потенциальными возвращенцами. Никто не отменял древнюю истину о приятности несоответствия рангов в Риме и галльской деревне, тем более если последняя совпадает с родными пенатами.
"Зайчишки " прибывают с тем же самым намерением, но несколько иной мотивацией. Это люди твердо уверенные, что опасней и ужасней КГБ и вообще российской истории ничего не бывает и главное, никогда не будет. Их жизнь — постоянное ожидание погрома. Тяжелый случай.
Наконец, вольное "академическое казачество " — самая массовая и в цепом молодая группа. Как и полагается, состоит из беглых холопов да разоренных купчишек. Безродная и лихая категория, включающая студентов, аспирантов и "приват-доцентов", отчего-то не подавшихся в молодые звезды отечественного бизнеса или политики, и вплоть до пущенных по миру трудяг-завлабов. Кормится небольшими грантами и стипендиями и оттого вынуждена беспрестанно кочевать с кампуса на кампус.
"Клещи" и "зайчишки" в большинстве своем по натуре скорее продолжатели и исполнители, пусть добросовестные, и они едва ли рассчитывают на многое. Для них, воистину: "отдых и покой замена счастью..." Напротив, "академические казаки", как правило, метят в атаманы или как минимум надеются со временем обрасти крепким самостоятельным хозяйством.
И обрастут, конечно же, в том числе и на самом важном — бытовом уровне. Появятся дома со всеми атрибутами комфортной западной повседневности. Разовьются экзотические для отчих палестин привычки. Самое же главное, даже если заморским персиянкам в браке предпочтут они милых соотечественниц, их дети все равно заговорят по-иностранному, привыкнут с младых ногтей праздновать какой-нибудь чертовский Хэллоуин и есть на завтрак кукурузные хлопья "Тотал" с арахисовым маслом. Останется, конечно, некая тургеневская серебряная пепельница в виде мужицких лаптей да привычка водить машину под ностальгические раскаты хора им. Веревки или "ДДТ".
Противодействующие факторы, впрочем, будут еще долго тянуть их в родную сторону. Прежде всего, далеко не всем хватит сил и терпения карабкаться сквозь многоязыкую толпу конкурентов по западным научным лестницам. При определенной ловкости, регулярно перемещаясь между западным и отечественным сообществами, добиться научного престижа намного легче (как давно открыли указующие нам путь в будущее братья-поляки и венгры, причем наше постсоветское сообщество несопоставимо более емкое — велика Россия).
Кроме чисто статусно-карьерных соображений есть мощнейшие культурные стимулы к возвращению. СССР и все предшествующие ему российские империи составляли мир в себе, вполне самодостаточный и по-своему привычно-уютный для коренных обитателей. Внешний мир всегда был нам очень необходим и желанен, покуда оставался далекой экзотикой; любимое российское общение с заграницей — через наши традиционно качественные переводы.
Бытовое общение с "иностранностию" мы едва ли выносим. Сказывается многое — органическая неспособность советского интеллигента получать удовольствие от чтения "Нью-Йорк Таймс", от пестро-пресного телевидения, от ужасно серьезных дебатов по поводу "геев" в армии, или от общей цепулоидности постмодернистского Запада, от фундаментальной невозможности пить и вести задушевные беседы с одномерными "аборигенами" (См. "Новую московскую философию" Вяч. Пьецуха). Да те же дети, начинающие милыми повадками и умственным развитием напоминать Микки Маусов! Однако остановимся на этом, покуда не впали в распространенный грех бытового антиамериканизма. Короче, возвращаться будут из-за всего того, что наряду со святейшим чувством "своей команды" (в спортивном смысле) составляет патриотизм.
В этом отношении новейший выброс соотечественников за рубежи российского империомира скорее напоминает послереволюционную, первую волну эмиграции. Позднесоветская, или "еврейская" волна эмиграции была преимущественно движением принципиальных невозвращенцев. Логика отвержения советского общества очень тяжело сказалась в этих насквозь закомплексованных людях (потому и остающихся именно позднесоветской, "застойной" диаспорой — неосознанными, но тем более ревностными хранителями "совка").
Студенческо-научная диаспора посткоммунистического периода скорее всего не является ни диаспорой, ни эмиграцией. Кардинальное отличие этой волны в том, что она представляет не одно из "прошлых" России (до- или поздне-советское), но потенциальное постсоветское будущее . Наши утекшие на Запад мозги отражают конкретно именно это — демократическое, постиндустриальное — будущее экс-Союза, даже если оно и не состоится. Просто в этом случае интеллектуальная фракция "четвертой" волны превратится в эмигрантскую диаспору, культурно соответствующую стране, которая не получилась.
В этом утверждении содержится ответ на вопрос, вынесенный в подзаголовок. Бороться с брейн-дрейном бессмысленно — это симптом, а не болезнь. Если хотя бы к 2005 г. посткоммунистическая Россия не будет нормализована в качестве хотя бы сегментарной, очаговой демократии, то отток мозгов лишь усугубит ее сползание в Третий мир. Ведь массовый отъезд — не произвольный выбор, а социологическая неизбежность — даже если отдельные специалисты вернутся на родину, в условиях хаоса их шансы оставаться именно учеными — минимальны. Напротив, при нормализации положения в стране брейн-дрейн оказывается преимуществом — вернулись же отец российского фарфора Виноградов с Михайло Ломоносовым, последний даже с женой-немкой, и с какой пользой для отечества!
Конечно, ответственные и ответственные во всех отношениях господа непременно спросят, а можно ли способствовать возвращению на родину сильно выросших профессионально за годы скитания кадров? Теоретически, конечно, можно. Та же ЮНЕСКО потратила массу сил и еще больше средств на всевозможные экспертизы в целях прояснения данного вопроса. И даже далеко не всё в тех экспертизах можно отмести как обычные благоглупости международных бюрократов. Скажем, можно поспособствовать Аэрофлоту в предоставлении льготных тарифов, организовать летние стажировки для студентов, биржи репатриантского труда, помогать с доставкой на родину книг и иных полезных тяжестей, повлиять на родные таможенные и консульские службы. Возможно, по поводу оттока из СНГ специалистов лучше всего вообще ничего не предпринимать — все равно исполнение будет поручено отечественному чиновничеству.
Пару лет назад в Колумбусе, что в Огайо, объявлялся некто Денис К., загоревшийся идеей всех советских студентов в США пересчитать и объединить в целях улучшения. Я не верю, что сие мероприятие исходило непосредственно из Лубянки. Компетентности недоставало — притом уж очень узнаваемо стиль этого начинания отдавал искренним карьеризмом комитета комсомола и совета молодых ученых. Однако же, немало разбросанных по городам и прериям "академических казаков" начало вдруг выказывать уши пуганых "зайчиков". Так что — лучше не надо. Целее будет.
1995 г.
Данный текст впервые был опубликован под названием "Брейн-дрейн (Можно или нужно с ним бороться?)" в журнале "Знание-сила", 1995, №11. с.16 — 21.
Публикуется на сайте РА с разрешения редакции журнала "Знание-сила".
|